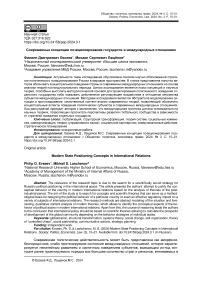Современные концепции позиционирования государств в международных отношениях
Автор: Евсеев Ф.Д., Лащнов М.С.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
Актуальность темы исследования обусловлена поиском научно обоснованной стратегии политического позиционирования России в мировом пространстве. В статье представлена попытка авторов обосновать концептуальное поведение страны в современных международных отношениях на основе анализа теорий постиндустриального периода. Целью исследования является поиск концепций и научных теорий, способных выступить методологической основой для проектирования политического поведения отдельного государства либо оказывать действенное регулирующее воздействие в отношении множества субъектов международных отношений. Методами исследования являются абстрактное моделирование ситуации и прогнозирование, качественный контент-анализ современных теорий, позволяющий обозначить концептуальные аспекты поведения политических субъектов в современных международных отношениях. Ход рассуждений приводит авторов к заключению, что международная политика должна основываться на научных теориях, позволяющих просчитать перспективы развития глобального сообщества в зависимости от стратегий поведения отдельных государств.
Глобализация, структурная трансформация, теория систем, социальные изменения, самоорганизация, теория
Короткий адрес: https://sciup.org/149145324
IDR: 149145324 | УДК: 327:316.622 | DOI: 10.24158/pep.2024.3.1
Текст научной статьи Современные концепции позиционирования государств в международных отношениях
войны и локальные конфликты. Коллапс социализма и формирование новых коммуникационных систем оказали сильнейшее влияние на международную политику. Прежний (биполярный) миропорядок, установившийся по результатам Второй мировой войны, объективно разрушен и уже не способен выступать основой бесконфликтного существования наций. Его номинальное присутствие обеспечено невозможностью полноценной замены, а продолжающееся функционирование международных институтов выглядит как дань времени, в котором им удавалось обеспечение относительной стабильности в международных отношениях. Предположения о причинах произошедшего самые разнообразные: С.Ф. Хантингтон отмечает их культурно-религиозный характер (Хантингтон, 2003), Ф. Фукуяма – ценностно-идейную политику идентичности (Фукуяма, 2019), М.С. Федоров – процесс построения НАТО-центричной модели безопасности в Европе, обеспечивший взаимную совместимость потенциалов ЕС и НАТО с прогнозом на дальнейшее мировое доминирование (Федоров, 2016). В числе прочих обстоятельств, как заявляет А.Г. Быстрицкий1, не последнюю роль сыграла и элементарная «близорукость западных мировых элит», поведение которых дискредитировало международные организации и существовавшую ранее систему общенациональных норм и правил. И теперь уже трудно поверить в их способность восстановить авторитет после череды, мягко говоря, непопулярных решений.
Свидетельств такого положения вещей достаточно много в международной политике, и уже вряд ли кто-то объективно готов оспаривать их свершение. Они разделяемы и западным, и отечественным политическим истеблишментом. Так, лидер Китая Си Цзиньпин, говоря о необходимости реформирования международной системы взаимодействия, описывает специфику новой эпохи отношений в категориях турбулентности, масштабной трансформации и глобальной тряски2. Американский дипломат и президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в своей статье «Как заканчивается мировой порядок и что придет ему на смену» рассуждает о причинах неэффективности старой архитектуры безопасности и прогнозирует воссоздание «концерта держав», усилиями которого долгое время обеспечивался мировой поря-док3. Также о необратимости распада прежней и неизбежности формирования новой, многополярной системы международных отношений говорил президент России В.В. Путин на Валдайском форуме в 2023 г.4 Все мировое сообщество обеспокоенно ходом и перспективными результатами происходящего переформатирования. В рамках внешнеполитических дискуссий осуществляется поиск ответа на вопрос о том, что должно быть в основе нового миропорядка и какие стратегии способны обеспечить бесконфликтное развитие человеческого общества, гарантировать мир, безопасность и взаимное обогащение наций.
Все возможные варианты развития глобального общества проецируются на конкурирующие между собой картины мира, ни одна из которых уже не может претендовать на общезначимость. Совокупно их можно представить в некой единой плоскости, сущность которой может составить либо многополярный мир, подразумевающий международные отношения с несколькими полюсами влияния, либо укрепление мировых институтов при лидирующем (доминирующем) положении США и стран западной коалиции, выступающих в роли некоего «стража», обеспечивающего глобальный порядок и справедливость. Но поскольку в беспристрастность США уже мало кто верит, то вариант многополярности как альтернативный вектор развития мирового сообщества постепенно набирает популярность и в некотором отношении даже претендует на доминирование, в том числе и в российской международной повестке.
Для современного отечественного обществознания важно получить адекватное научное объяснение происходящему. В настоящей работе мы намерены обозначить роль современной науки в регулировании происходящих мировых событий, найти ответы в существующих теориях и определить возможные способы минимизации рисков и снижения политической напряженности в международных отношениях. Полагаем, что наука может и должна выступать основой для стратегического планирования и обеспечения безопасности в сфере геополитики.
Целью настоящей статьи является анализ современных научных теорий на предмет их способности предсказать либо предупредить негативное развитие событий на международной арене, оказать регулирующее влияние в условиях современной эпохи, обозначить концептуальные аспекты поведения государств, в том числе и России, в современных международных отношениях.
Следует отметить, что основное внимание нами акцентировано на анализе постнеклассических теорий, поскольку современные реалии трудно описываются в ранее доминировавших категориях устойчивого равновесия, рациональных ожиданий и совершенной конкуренции. Подобных абстракций уже явно недостаточно для понимания сложившейся ситуации, характеризуемой исключительной динамичностью, сложностью и нелинейностью. Мир предстает, скорее, ареной хаотично развивающегося кризиса, порой лишенного логики и рациональности, нежели пространством порядка и предсказуемости.
Именно поэтому одной из теорий, привлекших наше внимание, стала теория управляемого хаоса (контролируемой нестабильности), некоторые ключевые элементы которой разработаны Н. Элдриджом и С. Гулдом (теория прерывистого равновесия) (Eldredge, Gould, 1972). Если кратко, то суть их достижений в следующем: в природе существует и медленная эволюция, и катастрофы. Это два состояния развивающейся, эволюционирующей материи, при которой существует некий сценарий (механизм развития), обеспечивающий возникновение и дальнейшее совершенствование сложных структур. Но через какое-то время данный сценарий себя полностью вырабатывает, создаёт предельные образования, какие только способен сформировать, и на этом его «работа» заканчивается. Далее следует короткий промежуточный период, затем – катастрофа, прорыв в новую фазу эволюции. Наработанные сложные структуры находят новый сценарий развития, и оно возобновляется с ещё большей скоростью. Но в данную фазу эволюции переходит не вся материя, а лишь ее небольшая часть. Остальное остаётся в прежнем состоянии и не развивается. Эта теория наиболее полно соответствует сложившимся представлениям о биологической эволюции на сегодняшний день, но относится не только к Земле как планете, но и ко всей Вселенной, которая, собственно, и начала свое развитие с катастрофы – появилась в результате Большого взрыва.
В свою очередь теория Элдриджа – Гулда послужила основой для концепции Р. Тома (Том, 2002), которым катастрофа трактуется как резкое качественное преобразование объекта при плавном количественном изменении параметров, от которых он зависит. Теория катастроф нашла последующее применение в экономике, социологии и политологии и, будучи дополненной идеями синергетики и самоорганизации открытых систем, обнаружила себя в теории хаоса С. Манна1, объясняющей процесс общественных изменений в сложных социальных системах. Данная концепция выступала основой для выработки способов управления событиями «нелинейных революций», апробированных в Париже в 1968 г. во время студенческих волнений. Последующее развитие идеи послужило теоретической базой для создания алгоритма запуска «цветных революций» в 2000-ых гг. на постсоветском пространстве (в Грузии – «Революция роз» 2003 г., на Украине – «Оранжевая революция» 2004 г., в Киргизии – «Тюльпановая революция» 2005 г. и т.д.). Подобная практика явилась примером негативного использования теории хаоса, однако она не исключает наличия позитивного содержания в обозначенной теории.
Раскрывая содержание последней, следует указать, что объектом её регулирования выступают диссипативные структуры, под которыми следует понимать сложные открытые системы, для которых не выполняются условия термодинамического равновесия. Иными словами, это устойчивое состояние, возникающее в неравновесных системах различной природы, которое характеризуется появлением новых, спонтанных, хаотичных структур.
Последующее свое развитие теория хаоса получила в работах И.Р. Пригожина, И. Стен-герс (Пригожин, Стенгерс, 1986) и др. Новаторство исследователей состояло в признании позитивной роли хаоса, приводящего к разрушению прежних систем и одновременно открывающего возможности для создания (трансформации) новых, отвечающих требованиям изменившейся внешней среды условий функционирования. При этом число возможных путей развития новой системы не сводилось к двум и более альтернативным вариантам, а зависело от количества аттракторов (множества траекторий динамической системы), сформировавшихся в период ее до-бифуркационного состояния. Непосредственный выбор направления развития происходил в период прохождения системой точки критического состояния.
Концептуальное содержание теории управляемого хаоса было сформулировано в результате дальнейшего исследования, проведенного Институтом сложности (Санта-Фе, США), и успешно апробировано в системах управления и реорганизации компаний, например в IBM, где сложился институт фиксеров – «специалистов без тормозов», которые постоянно стремятся профессионально совершенствоваться и новаторствовать. Их рассеивание среди служащих компании требует от управляющей системы навыков управления корпоративной анархией.
Применительно к международным отношениям следует говорить о нелинейности системы и самоорганизующейся критичности, проявляющихся в том числе в процессе естественного эволюционирования. Они способны достигать критической стадии развития, на которой даже незначительные события могут вызвать цепную реакцию и оказать влияние на многие элементы системы. Иными словами, подобные сложные образования никогда не достигают равновесия. Процесс их эволюционного развития характеризуется эпизодами временного относительно стабильного состояния, между которыми действия отдельных социальных субъектов (международных игроков) выходят из-под контроля и способны привнести кризис в общие отношения, а также привести к краху системы в случае неудачной попытки сформировать новые механизмы ее регулирования.
Подобное мы можем наблюдать на протяжении всего исторического пути развития международных отношений, динамичного и постоянно изменяемого. Социальная историческая реальность, характеризуемая наличием большого числа международных акторов, обладающих высокой степенью свободы, выступает, скорее, ареной постоянного кризиса с высокой степенью хаотичности, нежели пространством порядка. В этих отношениях отчетливо просматривается самоорганизующаяся критичность в страновом, региональном и международном масштабе. Теория управляемого хаоса в её представлениях о последней предлагает международным акторам увидеть и понять, что внутри осязаемого беспорядка и хаоса присутствует структура, пусть относительно устойчивая, но тем не менее способная оказывать регулирующее и самоорганизующее воздействие на процесс трансформации (переформатирования) системы. Теория хаоса обеспечивает основы и принципы концептуально-стратегического мышления, в том числе в политике и в сфере международных отношений.
Иллюстративной метафорой теории хаоса в политической науке является представление международного кризиса в качестве «пороховой бочки», ожидающей поднесения спички, что наглядно демонстрирует динамическую природу глобальных отношений. Фактор «зрелости» применительно к международным переговорам характеризует явное отсутствие условий для плодотворного коммуникативного процесса. Отсюда следует, что ключ к договоренностям лежит в плоскости диагностирования и использования критического состояния в отношениях. Так либо иначе феномен «самоорганизующейся критичности» указывает на неизбежное эволюционирование в сторону временной стабильности во избежание нежелательных результатов.
Подводя итог сказанному, можно сделать выводы о том, что абсолютный порядок и стабильность международных отношений представляются иллюзией, в то время как теория хаоса предлагает путь для мягкого и некатастрофического развития системы, позволяет осуществить профилактическое вмешательство в процесс развития кризиса на стадии, когда он еще не набрал всей своей силы и опасной непредсказуемости. Речь в данном случае идет о сознательном, постепенном и управляемом процессе, исключающем допущение разрушительного момента.
Теория хаоса предстает вполне адекватным для современной политики инструментом при условии его позитивного применения международными акторами для согласования и выполнения превентивных действий в противовес развитию кризисных событий.
Достаточно близкой по духу идеей, обеспечивающей «переговорный инструментарий» субъектам международных отношений, выступает теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса и его концепция «системных и жизненных миров» (Хабермас, 1993 а). Первопричину возникновения всех противоречий ученый видит в рационализации коммуникативного действия. Он утверждает, что в социальных системах она происходит реже, чем в жизненном мире, в силу чего возникают ситуации, когда над субстанциональной рациональностью (Вебер, 1990) продолжает господствовать устаревшая социальная система (сфера формальной рациональности), порождая общественные противоречия, объективно проявляющиеся в том, что «повседневная жизнь человека становится всё более убогой, а жизненный мир - всё более безлюдным» (Хабермас, 2011). Идеи Ю. Хабермаса кажутся нам вполне актуальными при исследовании системы международных отношений, в которой статусные роли представлены особыми субъектами -странами либо нациями. Решение кризисной проблемы Ю. Хабермас видит в «деколонизации» жизненного мира, открывающей возможности рационализации в форме свободного (добровольного) коммуникативного согласия. Основные его предложения сводятся к необходимости их нового соединения после создания «сдерживающих барьеров», функционально нацеленных на уменьшение влияния системы (правил, институтов) на жизненный мир. Иными словами, ограничить рациональность системы и в то же время дать возможность жизненному миру рационализироваться до такой степени, когда оба вида смогут сосуществовать на равных. Содержательное наполнение теории в сухой структуре отчасти синонимично положениям теории хаоса и предполагает допущение управляемого конфликта для целей самоорганизации, достижение коммуникативного согласия между элементами системы. Следуя теории, она предстает как механизм, предназначенный для воспроизводства эмансипированного коммуникативного дискурса международных субъектов, свободного от различного рода зависимостей, доминирования и принуждения со стороны друг друга. По Ю. Хабермасу «действия вовлеченных агентов координируются не эгоцентрическим пониманием успеха, а посредством актов достижения понимания» (Хабермас, 1993 б), обеспечивающих переход от переговоров к консенсусу в рамках одной социальной системы. Теория коммуникации создает своеобразный внутренний конструкт достижения согласия между конфликтующими элементами системы. Обе концепции дополняют друг друга, привнося в стратегии субъектов новые альтернативные модели политического поведения.
Однако исключительно позитивное следование субъектов международных отношений научным теориям слабо прогнозируемо. Любые знания или технологии могут быть использованы как в направлении достижения благих целей, так и для проектирования негативных сюжетов. Безусловно, первое представляется приоритетным для интересов всего мирового сообщества, и важную роль в ориентировании субъектов международных отношений на достижение благих целей должно сыграть научное сообщество – авторитетные ученые, научные школы, международные институты и т.д. Но есть ли гарантии того, что внимание субъектов удастся сосредоточить на позитивном содержании теории? Или того, что инструменты теории хаоса будут использоваться вопреки интересам мирового сообщества, например, для обслуживания интересов «золотого миллиарда»? Есть опасения, что у ряда субъектов может возникнуть желание использовать технологию хаоса и её научный потенциал в своих исключительных интересах, игнорируя потребности остальных субъектов глобального сообщества. Данное обстоятельство делает приоритетным направлением действий проектирование стратегии многополярного мироустройства и развитие международных отношений с несколькими полюсами влияния.
Огромный ресурс в данном аспекте имеет институционализация социального партнерства как инструмент согласования позиций субъектов взаимоотношений. И сегодня мы наблюдаем широкое, всеохватывающее и достаточно результативное влияние на мировое сообщество стратегии партнерства. Именно она в современных международных отношениях является противовесом политике деления на друзей и врагов. Так, в своих выступлениях российский лидер все чаще оперирует терминами «наши западные партнеры», «зарубежные партнеры», «стратегические партнеры», «иностранные партнеры» и т.п. Это исключает абсолютно негативную или позитивную коннотацию высказывания и определяет необходимость выстраивания диалогичных отношений со всеми мировыми игроками, но с позиции учета собственных интересов.
Самое примечательное, что в этом страны Запада уже давно и успешно преуспели. Их практика развития партнерских отношений уже длительное время обкатывается на просторах Европы начиная с подписания Вестфальского мира, в рамках которого в качестве концепции порядка была избрана стратегия «баланса сил», предполагающая идеологический нейтралитет и умение приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Как отмечает Г.А. Киссинджер, британский государственный деятель ХIХ века лорд Пальмерстон выразил основной принцип такого мироустройства следующим образом: «У нас нет вечных союзников и нет вечных врагов. Наши интересы – вот что вечно, постоянно, и наш долг – следовать этим интересам» (Киссинджер, 2018). Синонимичное мнение озвучивал Вильгельм Оранский в разговоре со своим советником, слова которого Г.А. Киссинджер приводит в своей книге «Дипломатия»: будучи на протяжении всей своей жизни противником французского господства, сначала как штатгальтер Нидерландов, а затем как король Англии, Ирландии и Шотландии, Вильгельм признавался, что, живи он в 1550-х годах, когда Габсбурги пребывали в зените славы, он был бы «настолько французом, насколько теперь испанец» (Киссинджер, 1997). Позднее, как отмечает Г.А. Киссинджер, и Уинстон Черчилль, отвечая в 1930 г. на обвинения в антигерманизме, сказал: «Если обстоятельства изменились бы с точностью до наоборот, мы бы стали пронемецкой и антифранцузской страной» (Киссинджер, 2018). Кстати, Европейский союз вполне закономерно предстает результатом такой многовековой политики.
Конечно, подобное понимание международного взаимодействия российскому обществу не совсем свойственно. Для русского менталитета признание друзей и врагов партнерами неорганично, и возможно в этом – наша самая главная беда. Концепция внешней политики, сформулированная по принципу «Нам нужны друзья, а не враги», акцентирует внимание на эмоциональном содержании отношений исключительно с позиции субъективной привлекательности той либо иной страны, ее силы, активности, размера территории, власти, лидера, не учитывая рациональных (фактические, физические) возможностей для открытого позиционирования в современном мире.
Ошибочной политикой стоит признать и то, что причисление государств к недружественным порой делается на основании ряда высказываний политических лидеров этих стран, без учета фактически осуществляемой ими политики. А ведь многие из них лишены возможности открытой демонстрации своей позиции, поскольку она значительно усложнила бы их качественное существование. И это следует принимать в расчет. Например, Сербия окружена странами
Североатлантического альянса, не имеет выхода к морю, а часть ее граждан фактически находится в заложниках у косовских албанцев. В подобной обстановке фраза А. Вучича «Одно дело – моё мнение или моих близких, а другое – позиция и интересы государства, которое я возглав-ляю»1 звучит исключительно в рациональным подтекстом. Сербский народ ведет сегодня борьбу за самосохранение и современные обстоятельства вынуждают его перестраиваться и адаптироваться. Поэтому отдельные политические ситуации не должны являться основаниями для разрыва отношений между государствами и лишать их возможности для развития конструктивного диалога, выстраивания партнерских отношений. Подобная политика нам представляется оправданной для обеспечения эффективных международных отношений и единственно верной для формирования обособленного «полюса влияния» в современном мироустройстве.
Следует понимать также и то, что развитие международных отношений сопровождает эволюция их субъектов. Меняются ориентиры, ценности, стратегии, цели и средства и их достижения. В таких условиях деление на друзей и врагов представляется условным и не всегда оправданным, потому что лишает возможности для принятия объективного и рационального решения. Называя кого-то врагом, мы фактически лишаем себя возможности диалога с ним, в то время как партнерские отношения позволяют отслеживать изменения в характере и поведении противостоящего субъекта. Иными словами, принятию рационального решения мешает различный по содержанию набор эмоциональных составляющих, характерных для отношений вражды или дружбы. В подобных условиях лучше всего оставаться партнерами, чьи отношения выстраиваются на исключительности достижения личных интересов для каждой из сторон взаимодействия. Нет друзей и врагов, есть только интересы, в зависимости от которых субъекты реализуют свои цели через выстраивание партнерских взаимодействий в окружающем мире. Подобная стратегия позволяет избежать катастрофических последствий, минимизировать их либо свести на нет, обеспечивая более сбалансированную и конструктивную политику.
Отсутствие авторитетного полюса влияния лишает страну возможности выступать субъектом управления хаосом, в то время как ставка на акцентированный набор международного влияния за счет стратегии партнерства и полновесного противопоставления иному полюсу значительно увеличивает «число траекторий динамической системы» и тем самым дает ключ к проведению полноценных переговоров с обязательной необходимостью учета разнонаправленных интересов. Растущее в результате такой стратегии число возможных траекторий дальнейшего развития снижает способности оппонентов контролировать уровень критической нестабильности.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что «бдительное» присутствие в науке позволяет субъектам внешней политики давать адекватное объяснение происходящим процессам и на этой основе осуществлять стратегическое планирование международной политики, многократно снижая показатели неизвестности, хаотичности и неопределенности. Это обстоятельство в очередной раз подтверждает, что владение информацией и производство знаний выступают основой современной эпохи, обеспечивая преимущества политического актора.
Международная политика – это игра профессионалов, в арсенале которых должны присутствовать современные политические технологии и которые способны их реализовать. Это как собирать кубик Рубика: все представляется очень сложным до той поры, пока вы не осознаете принципы сборки и не освоите набор действий для подбора возможных комбинаций, после чего все встает на свои места.
Список литературы Современные концепции позиционирования государств в международных отношениях
- Вебер М. Основные социологические понятия. Избранные произведения. М., 1990. 808 с.
- Киссинджер Г.A. Мировой порядок. М., 2018. 544 с.
- Киссинджер Г.А. Дипломатия. М., 1997. 847 с.
- Пригожин И.Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986. 432 с.
- Том Р. Структурная устойчивость и морфогенез. М., 2002. 288 с.
- Федоров М.С. Органы управления в сфере ОПБО ЕС: структура и специфика // Вестник МГИМО-Университета. 2016. № 4 (49). С. 190–198. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2016-4-49-190-198.
- Фукуяма Ф. Идентичность: стремление к признанию и политика неприятия. М., 2019. 256 с.
- Хабермас Ю. От картин мира к жизненному миру. М., 2011. 128 с.
- Хабермас Ю. Отношение между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // Thesis. 1993 а. № 2. С. 123–136.
- Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 1993 б. № 4. С. 43–63.
- Хантингтон С.Ф. Столкновение цивилизаций. М., 2003. 603 с.
- Eldredge N., Gould S.J. Speciation and Punctuated Equilibria: an Alternative to Phyletic Gradualism // Models in Paleobiology. San Francisco, 1972. Р. 82–115.