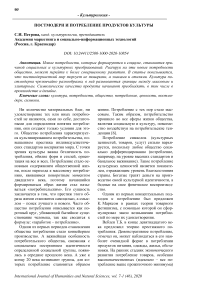Современные невоенные глобальные угрозы и вызовы
Автор: Хлопов О.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Политические науки
Статья в выпуске: 7-1 (46), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье приведен анализ современных вызовов и угроз невоенного характера: киберугозы, экономические и экологические угрозы, проблемы миграции и нелегальной миграции, торговля людьми и человеческими органами. Автором отмечается, что связь между глобальными угрозами и безопасностью играет все более важную роль в национальной и международной повестке дня. Невоенные угрозы влияют не только внутренней безопасность государств и международной стабильности, но требует формирования новой системы глобального управления. Но многие из этих угроз остаются нерешенными, потому что международная система и институты глобального управления не успевают адаптироваться к технологическим, социальными и экономическим изменениям.
Международные угрозы, международная безопасность, кибертерроризм, экологические угрозы, миграция, торговля людьми
Короткий адрес: https://sciup.org/170190838
IDR: 170190838 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10855
Текст научной статьи Современные невоенные глобальные угрозы и вызовы
Ни количество материальных благ, ни удовлетворение тех или иных потребностей не являются, сами по себе, достаточными для определения понятия потребления, они создают только условия для этого. Общество потребления характеризуется культивированием потребительства, повышением престижа индивидуалистических стандартов восприятия мира. С точки зрения культуры важна безличность потребления, обилие форм и стилей, ориентация на все и всех. Потребление стало основным содержанием общественной жизни, после перехода к массовому потреблению, явившимся поворотным моментом двадцатого века, поэтому начавшийся формироваться образ жизни стал называться «потребительским». Его сущность заключается в том, что престиж этого образа жизни становится самоцелью, а смыслом – поиск лучшего и нового. Часто общество потребления описывается как порочный круг, убивающий бытийное существование человека, так как сводится к формуле: «заработок – потребление».
Одним из первых периодов становления общества потребления стало конвейерное производство. А важнейшая особенность потребительского общества, связанная с социальным построением идентичности определенной социальной группы, появилась в середине прошлого века. А уже к концу 20 века возникают группы, для которых потребление становится образом жизни. Потребление с тех пор стало массовым. Таким образом, потребительство проникло во все сферы жизни общества, включая социальную и культуру, повсеместно воздействуя на потребительские тенденции [6].
Потребление символов (культурных ценностей, товаров, услуг) сильно варьируется, поскольку любое общество социально дифференцированно (потребление, например, на уровне высоких стандартов и банальное выживание). Такое потребление культурных ценностей является показателем, отражающим уровень благосостояния страны. Богатые тратят деньги на производство своей культурной идентичности, а бедные на свое физическое воспроизводство.
Одним из первых концептуальных подходов к потреблению был предложен К. Марксом в рамках теории товарного фетишизма, с помощью которой он сформулировал закон возвышения потребностей по мере их удовлетворения.
Веблен Т.Б. в конце девятнадцатого века предложил теорию престижного потребления. Демонстративное потребление, отмечал он, может наблюдаться в его наиболее очевидной форме в потреблении продуктов питания, одежды, жилья, обстановки. На ранних стадиях экономического развития потребление товаров, особенно высококачественных (идеально – все потребление выше прожиточного минимума)
принадлежит «праздному» классу. Потребление продукта более высокого качества является свидетельством богатства, становится престижным, и наоборот, отсутствие потребления товаров необходимого качества и в необходимых объемах, является признаком низкого статуса. Для господина, показное потребление материальных ценностей является средством достижения уважения. В одном случае это ненужная трата времени и усилий, в другом – чрезмерное материальное потребление. Можно также отметить, что потребление, как средство поддержания репутации, а также его пропаганда как одной из основ порядочности в полной мере проявляется в тех сферах социума, где социальные контакты человека наиболее распространены и где подвижность населения выше [3].
Зиммель Г.Г. изучал проблему потребления в аспекте теории моды. Мода, по его мнению, является одной из многих форм жизни, для которой тенденция к социальному выравниванию сочетается с тенденцией к индивидуальному различию в одной деятельности. Возможно ничто не доказывает более убедительно, что мода это просто результат социальных или формально психологических потребностей, чем то, что с точки зрения объективных, эстетических или иных факторов целесообразности, невозможно обнаружить малейшей причины, которую дает ей мода – должны ли вы носить узкие или широкие брюки, юбки, округлые или взбитые прически, красочные или черные галстуки. Во всем этом нет и следа целесообразности [5].
В современной культуре мода имеет большое значение – проникая в новые области и усиливая изменения там, где она уже действует постоянно. Мода также компенсирует незначительность индивида, его неспособность индивидуализировать собственное существование.
Зиммель Г.Г. обращает внимание, что привлекательность моды заключается в контрасте между ее широким распространением и спросом. Таким образом, мода характеризует потребность и потребительство как широких масс, так и людей обладающих вкусом.
Зомбарт В. рассматривал проблему потребностей в контексте созданной им концепции роскоши. Вебер М. сформулировал концепцию статусных групп и протестантской этики.
Важные подходы к теории потребления наметил Гофман И. Систематизируя понятия знакового символического взаимодействия, он отмечал, что в первом приближении коммуникация это процесс передачи друг другу и, соответственно, постепенная социализация частных переживаний, идей, эмоций, ценностей и т.п. Этот процесс детерминирует формирование и отдельной личности, и общества, и социальных институтов, организаций и учреждений. Обусловленность становления человека от процесса передачи жизненного опыта другим людям, и получения от них своих сообщений (коммуникация предполагает как передачу, так и прием) подразумевает теоретическое расхождение как с психологизмом, допускающим существование каких-то готовых, врожденных природных мотивов человеческого действия, независимых от среды социума ситуаций, окружающих институтов, так и с крайним социологизмом, представляющим человека чем-то вроде чистого листа (tabula rasa), заполняемого прямыми импульсами природой и социальной среды, коллективного сознания и т.п. Гофман И. пишет о важности «драматургического» подхода, имеющего свою особую «ситуационную» систему понятий из-за внутренней диалектики развития общественных форм жизни. В любой микросистеме взаимодействия лицом к лицу, отмечает он, люди взаимодействуют с другими, непосредственно присутствующими, участниками, вступая в культурно обусловленные познавательные отношения, без которых было бы невозможно упорядочение совместной деятельности ни в вербальных, ни в поведенческих формах [4].
Углубляясь в межличностные взаимодействия как функциональные формы потребления и формирования культурных потребностей, Гофман И. рассмотрел проблемы человеческой деятельности используя законы драматургии, показывая как человек-потребитель, потребляя, пред- ставляет себя другим, участвует в повседневной жизни, формируя культурные потребности.
Во второй половине двадцатого века проблемой общества потребления заинтересовались Бурдье П. и Бодрийяр Ж., которые сосредоточили свое внимание не на материальной потребительной стоимости, а на символическом характере потребления, рассматривая потребление не как экономический, чисто утилитарный процесс, а как социально-культурный процесс.
В разных странах потребление связано, прежде всего, с экономическим положением людей, но люди также могут стремиться к покупке продукта, который рекламируется в прессе или по другим канал мас-смедиа. В таком случае можно говорить, что потребление обусловлено не столько основными, базовыми потребностями, сколько символическим значением, заложенном в вещи. Разделять утилитарное и символическое значение вещи не следует, так как они дополняют друг друга. Вещи присуще не только потребительская ценность, но и символическая. Потребляя определенный продукт человек подтверждает свой социальный статус, принадлежность к той или иной группе. Следует отметить, что у одних социальных групп эта символическая составляющая может быть слабой, в то время как у других она будет занимать очень важное место.
Бурдье П. показал, что сегодня потребление это не просто пустая трата денег, эта трата, проходящая через определенные «культурные сетки», в частности, культурную сеть «хорошего вкуса» (являющегося одной из форм интеллектуального капитала). И в этом смысле образование (другая форма интеллектуального капитала) и «вкус» тоже являются компонентами современного потребления.
Бурдье П. считал, что в потребление культуры, когда другие факторы равны, влияние происхождения особенно важно, если речь идет «высшем обществе». Социально признанная иерархия искусств (а внутри каждого, иерархия жанров, школ) соответствует социальная иерархия потребителей. Это свидетельствует, что вкусы выступают как маркеры класса [2].
Такая категория, как «вкус», должна воспитываться через формирование культурных потребностей, эти два понятия взаимосвязаны. Практическое и качественное значение потребления культурных ценностей зависит не только от разработанной окружающей действительностью схемы, но и от формирования культурных потребностей.
Бодрийяр Ж. считал, что потребление, это, прежде всего, потребление знаков и символов. Вещи и ценности обладают не только потребительной, рыночной, меновой, но и символической стоимостью. По его мнению вещи могут передавать информацию, быть ее носителями и обозначать социальные качества. Они становятся не только объектом удовлетворения потребностей, но и символом, демонстрирующим социальную значимость ее владельца.
Бодрийяр Ж. подчеркивает, что вещи и предметы отсылают к конкретным социальным целям и социальной логике. Они свидетельствуют не столько об их пользователе и технических практиках, сколько о социальных претензиях и покорности, социальной мобильности и инертности, о привыкании к новой культуре и погруженности в старую, о стратификации и социальной классификации.
Критикуя современное общество Бод-рийяр Ж. показывает его неизбежную модификацию как неокапиталистического общества потребления. Для него потребление потеряло связь с удовлетворением потребностей. Выбирая товар и услуги, человек создает свою идентичность, делая поправку на культуру сообщества. Потребляя человек по существу делает текст, через который выражает свое положение в обществе, идентифицирует себя с определенной группой. Потребление становится средством «доступа к социальным и культурным ресурсам», а также средством оказания впечатления на других для достижения определенных целей в повседневной жизни [1].
Постмодернисткий мир торгует не товарами, а знаками и стилями. Культура постмодерна чрезвычайно разнообразна, в ней размываются границы между массо- вым и элитарным, возникает много потребительских стереотипов. Символические качества продукта начинают преобладать, в том числе в производстве и дизайне продукта. Стандартные продукты пользуются меньшим спросом, чем те, которые рассчитаны на определенный культурный слой и поэтому имеют четкий специфический характер.
Сегодня потребление изучается различными науками, часто постижение этого феномена происходит на междисципли- нарном уровне. Значительное расширение взглядов на поведение потребителей обусловлено отходом от экономики и вниманием к социально-философским проблемам потребления. Одной из черт нового направления стал интерес к культурологическим подходам. Современная теория потребления, под влиянием постмодерна, все больше переплетается с культурологией. Внимание переносится на символический характер потребления, формирование личности и ее стиля жизни под его влиянием.
Список литературы Современные невоенные глобальные угрозы и вызовы
- Schmitt B. (Ed.). Information Security: A New Challenge for the EU. Chaillot Paper. 2005.
- Valeriano B., Jensen B, Maness R.C. Cyber Strategy: The Evolving Character of Power and Coercion. Oxford University Press. 2018. 320 p.
- Cottey A. Security in 21st Century Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2013.
- Aliber R.Z., Zoega G. The 2008 Global Financial Crisis in Retrospect: Causes of the Crisis and National Regulatory Responses. Palgrave Macmillan. 2019. 443 p.
- Pascual C., Elkind J. Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications. Brookings Institution Press.2009. 279 p.