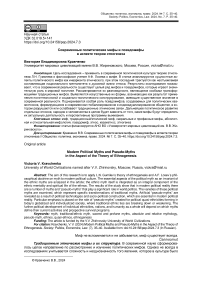Современные политические мифы и псевдомифы в аспекте теории этногенеза
Автор: Кравченко Виктория Владимировна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования - применить в современной политической культуре теорию этногенеза Л.Н. Гумилева и философское учение А.Ф. Лосева о мифе. В статье анализируются сущностные аспекты политического мифа как инварианта этнического; при этом последний трактуется как неотъемлемая составляющая национального менталитета и духовной жизни этноса. Результаты исследования показывают, что в современной реальности существует целый ряд мифов и псевдомифов, которые играют значительную роль в мировой политике. Рассматриваются их разновидности, являющиеся особыми трансформациями традиционных мифов. Выявляются искусственные их формы, возникающие как результат применения политтехнологий и социально-политического конструирования, имеющие существенное значение в современной реальности. Подчеркивается особая роль псевдомифов, создаваемых для политических квазиэтносов, формирующихся в современном глобализированном и индивидуализированном обществе, в котором разрушаются или ослабевают традиционные этнические связи. Дальнейшее политическое развитие отдельных этносов, народов и человечества в целом будет зависеть от того, какие мифы будут определять их актуальную деятельность и перспективные программы выживания.
Миф, традиционный/этнический миф, сакральные и профанные мифы, абсолютная и относительная мифология, псевдомиф, этнос, квазиэтнос, этногенез
Короткий адрес: https://sciup.org/149145901
IDR: 149145901 | УДК: 32.019.5+141 | DOI: 10.24158/pep.2024.7.3
Текст научной статьи Современные политические мифы и псевдомифы в аспекте теории этногенеза
Миф не вспоминается и не забывается, миф существует всегда.
Саллюстий
Традиционные этнические мифы и их структура . В современной науке сформировалось целое направление по рассмотрению и изучению политических мифов. Однако не всегда в исследованиях учитывается сложность и неоднозначность того явления, которое в культуре было
названо мифом; более того, некоторые авторы не артикулируют собственную трактовку его как такового, а используют это понятие так, как будто оно всеми и всегда интерпретируется одинаково.
В действительности существует целый ряд концепций мифа: в символической теории Э. Кассирера мифологическая деятельность рассматривается как особая символическая форма культуры (Кассирер, 2002); родоначальник функционализма Б. Малиновский (Малиновский, 2004) видел в мифе способ поддержания традиционности и культурной непрерывности; К. Леви-Стресс (Леви-Стросс, 2001) в своей структуралистской теории рассматривал миф как инструмент первобытной логики и анализировал соответствующее мышление как набор бинарных оппозиций... В этих и множестве других подходах к мифу обнаруживается одно общее свойство: он рассматривается как уникальный дискурс, объединяющий реально познанное (известное) и предполагаемое (неизвестное, таинственное).
В нашем исследовании мы будем трактовать миф как процесс формирования этносом1 предельно целостного представления о действительности или ее отдельных сторонах, позволяющий организовать жизнь или выживание этноса как в целом, так и его отдельных членов в сложных и непредсказуемых природных, социально-исторических и культурных обстоятельствах.
Миф не является ни выдумкой, ни фикцией, ни фантастическим вымыслом; он должен рассматриваться, как указывал А.Ф. Лосев, «с точки зрения самого мифического сознания», представая как «. наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность» (Лосев, 2022: 58).
Этнические мифы подразделяются на основные виды: космогонические, этнологические, антропологические, героические, эсхатологические. Они могут быть встроены в религиозные системы, в философские концепции, в научные теории.
Подчеркнем: подлинный миф создается этносом (племенем, социальной группой, народом, нацией), он является квинтэссенцией этнической культуры, из которой «вырастает» естественным образом в течение достаточно длительного исторического времени в результате сложных культурных процессов и, как правило, освящен определенными ритуальными практиками.
Выделим некоторые особенности мифа:
-
- в нем органично соединено «священное» и «мирское» («сакральное» и «профанное»). При этом миф не является «бытием идеальным», то есть «произведением чистой мысли», по А.Ф. Лосеву (Лосев, 2022). Определяя его в современных терминах, можно утверждать, что это продукт эмоционального, а не рационального интеллекта этноса2;
-
- традиционный миф, конечно, трансформируется, но крайне медленно и, как правило, в связи с переменами в этнической культуре. Зачастую преобразуются нарративы мифа, в то время как его эмоционально-интеллектуальный контекст остается неизменным (некоторые процессы трансформации мифа называются ремифологизацией);
-
- агрессивное «развенчание» традиционного мифа (демифологизация) неизбежно ведет к разрыву связей поколений, к деградации и даже к уничтожению этноса. После освоения конкретного культурного ареала на основе первичного мифа в повседневной жизни происходит «озем-ление» первичных мифов, что приводит к появлению и развитию множества примитивных его объяснений на уровне обыденных представлений.
Сегодня уже доказано, что древнейшие традиционные мифы на протяжении веков и тысячелетий в одном этносе существовали в двух «версиях»: сакральные, сохранявшиеся жрецами, запретные для остальных членов племени, и профанные - для обыденной жизни.
Необходимые повседневные навыки и знания распространялись среди всех членов племени наглядно и доступно, в прахудожественной и игровой форме, главным образом через обряд и ритуал. Тайные знания, вносившиеся в общедоступной форме в коллективную практику, обычными аборигенами воспринимались нерефлективно, как необходимый ингредиент, передаваясь и обыгрываясь в ритуале, обряде, обычае; а по прошествии времени - в сказании, былине, сказке, фольклоре как фантастический элемент.
А.Ф. Лосев различал «абсолютную» и «относительную» мифологию. Первая, по его определению, «существует как единственно возможная картина мира» для данного этноса, и со временем «ни один принцип ее не подвергается никакому ущербу». Эта «абсолютная мифология», перерастая «основные и примитивные моменты», развивается уже по собственным законам, в противоречивом взаимодействии с мифологией «относительной» (Лосев, 2022: 244). Рассматривая профанные мифы с «относительной мифологией», имеющие преходящий и изменчивый характер, мы можем подчеркнуть устойчивость и неизменность сакральных мифов «абсолютной мифологии», составляющих духовную основу жизни этноса и фундамент этнического менталитета.
В рамках этноэнергетической концепции (основанной на пассионарном учении Л.Н. Гумилева (Гумилев, 1993: 339–341)), рассмотрим трансформацию традиционных мифов в соответствии со сменами фаз этногенеза.
На этапе формирования («пассионарного взрыва») этноса и его подъема зарождаются в первую очередь космогонические и этногенетические мифы; происходит их дифференциация на сакральные и профанные. Традиционные сакральные мифы связаны с таинственной миссией «первопредков», создавших мироздание, и прародителей данного этноса. Они доступны немногим, придавая их хранителям (вождям, шаманам, старейшинам) мистический ореол. Но именно сакральные мифы являются основой этнического менталитета (Элиаде, 1994: 63–64).
Итак, сакральный миф определяет возникновение единого особого «эмоционального интеллекта» и фундамент национального менталитета, духовный центр жизни этноса. Хотя большинству его членов сакральный миф в полном объеме недоступен, а преподносится частично по большим праздникам в особой ритуализированной форме, это служит мощным средством консолидации этноса.
Политические мифы: версии традиционных этнических мифов и искусственно созданные псевдомифы . Стоит четко различать трансформированный традиционный миф и современные формы различных псевдомифов, которые политологами и неспециалистами принимаются за мифы. В первом случае опора осуществляется на устойчивые сюжеты профанных мифов. Так, официальные биографии политических деятелей часто выстроены «по схеме» популярных мифов. Например, бедный парень (или простая девушка) из глубинки (возможно, сирота) пробивается благодаря собственному уму и таланту, а также верности государству (или высоким идеалам, или политической партии, которую со временем достойно возглавляет) к высокому положению в обществе и использует его исключительно для борьбы за счастье своего народа (мира во всем мире, победы добра и справедливости). При этом в каждом конкретном случае важен сугубо этнический элемент. Скажем, в многонациональных странах может «сыграть» принадлежность политического деятеля к этническому меньшинству (как в уникальном случае с избранием лидером США Барака Обамы) или гендерный фактор (как в случае первой женщины-президента Сингапура Халимы Якоб).
Однако «естественно» сложившийся народный миф (например, о В.И. Чапаеве) сохраняет свою духовную составляющую, отражая реальные чаяния и идеалы народа, способствуя его сплочению и творческому развитию. А искусственный политический миф оказывается «артефактом», который может нести в себе риск политической и культурной деградации народа, социальной дезорганизации, а с развенчанием политического «мифа» усилиями журналистов – политического раскола и культурной стагнации этноса и народа.
Особое место в современной политической реальности занимают новые псевдомифы, имеющие лишь отдаленную связь с традиционными формами данного феномена.
Обозначим некоторые их черты:
-
– это искусственно созданные нарративы (часто имитирующие традиционные мифы), апеллирующие к тривиальному разуму и обывательской логике, часто использующие технологии воздействия на подсознание и массовую психологию;
-
– в качестве духовного «эрзаца» они настойчиво пропагандируются во всех средствах коммуникаций, а также с помощью рекламы, включающей интернет-спам;
-
– псевдомифы имеют целенаправленно актуальный и краткосрочный характер, редко «задерживаются» в этнической культуре, не запоминаясь как извращенные толкования исторических и культурных событий;
-
– данные феномены формируются с привлечением модных тенденций, броских рекламных акций и слоганов, которые в народе быстро становятся мемами, анекдотами, элементами городского (по преимуществу) фольклора.
Псевдомифы могут иметь долгосрочный и краткосрочный характер. Такая история о деятельности некоей партии рассчитана примерно на период ее правления. Краткосрочные псевдомифы сегодня именуются фейками.
Политический миф всегда подчеркнуто утилитарен, часто не совпадая с тенденциями развития этноса. Сегодня речь идет об особых политтехнологиях по созданию псевдомифов, использующих мощные резервы и потенциалы культурных мифов. Мы не можем согласиться с мнением
Н.Г. Щербининой, что «мифология – это архаическая легитимация вообще и древнейшие концептуализации – мифологические по форме» (Щербинина, 2008: 32). Рассматривая миф только как архаический «рудимент» (или атавизм?) современной культуры, Н.Г. Щербинина видит единственный путь: «Со временем мифологический универсум формулируется в терминах теории, а собственно мифология переходит в теологическую концептуализацию» (Щербинина, 2008: 32).
С нашей точки зрения, и абсолютные, и относительные мифы, конечно, трансформируются, в том числе в сфере религии, философии, науки и идеологии, но они не вырождаются и не перерождаются во что-то иное, не являются «пережитками прошлого», а всегда существуют и в определенном смысле всегда современны. Если рассматривать этнос как живой организм, можно сравнить этап его формирования с младенчеством, с периодом, когда зарождаются фундаментальные этнические мифы, которые являются генетико-культурным кодом. Он сохраняется в каждой личности – «клеточке» этноса, пока последний будет существовать. А относительные мифы чрезвычайно разнообразны и актуальны, порождаются естественно и искусственно, поскольку являются необходимым средством соединения известного и неизвестного в жизни человека и социума (Кравченко, 2023: 33–99).
Сегодня псевдомифы – это модные политические бренды, средства социальных манипуляций и рекламных технологий, искажающие действительность. В терминах К. Леви-Стросса, политический миф можно рассматривать как особый род идеологического бриколажа, подчеркивая ограниченность используемых средств (Леви-Стросс, 2008: 168). В политико-мифологическом бриколаже неслучайным образом соединяются в обычной жизни несоединимые представления и образы, которых, по идее, много, но в действительности они предполагают «попасть» в определенную референтную группу. Главное для политтехнолога – это вызвать особые эмоции, отношения и даже побуждения к действию в социальных группах, политических движениях, социокультурных общностях… Так, политический псевдомиф о постоянной угрозе Западу со стороны СССР, породивший даже определение страны как «империи зла», держал обывателей в страхе и формировал ненависть ко всему «советскому». Сегодня он является источником множества фейков по поводу «российской угрозы», но не приводит к гарантированному результату. Однако псевдомиф об экономической слабости России, сопровождавшийся не только фейками и прямыми угрозами западных лидеров, но и введением санкций против нашей страны, спровоцировал не деградацию, а, наоборот, рост российской экономики. Общество приняло этот псевдомиф как вызов и очередное испытание на выживание, каких было немало в нашей истории. Политический псевдомиф можно сравнить с фастфудом: это как бы тоже еда, и ею можно временно насытиться, но она не способствует здоровью общества, провоцирует социальные болезни, не развивает культурную среду, а ведет к ее стагнации.
Политические псевдомифы, ориентированные на эмоционально-психологическое восприятие политических явлений и событий, не существуют автономно, а являются частью более масштабных социально-политических экспериментов (Прибыткова, 2008: 40).
Рассмотрим вопрос, может ли существовать политический миф, способствующий выживанию этноса (или народа, или государства). Так, многие политические вожди рассматриваются в различных аспектах мифа о герое, существуя в народной памяти в нескольких противоречащих друг другу образах. Например, И.В. Сталин, согласно одному мифу, – победитель в Великой Отечественной и Второй мировой войне, лидер советской индустриализации, политический гений, выстроивший мировой социалистический лагерь и способствовавший установлению мира на всей Земле. Согласно другому мифу, он – исчадие ада, диктатор, создавший тоталитарный режим, державший всю страну в страхе, построивший ГУЛАГ, бросивший в застенки тысячи людей, загнавший ученых в «шарашки» и т.д.
Оба мифа имеют некоторое отношение к реальной личности И.В. Сталина, но не должны восприниматься в качестве неких «истин», требующих аргументов «за» и «против». Так или иначе его образ слился с народным мифом о «великом народном герое», который соединяет в себе и богатыря, и дракона, и царя, и тирана, и защитника, и палача... В отношении к нему до сих пор мало равнодушных: И. Сталин не уходит из народной памяти, именно с ним сравнивают других руководителей государства, продолжая развивать его мифологический образ, превратившийся в подлинный миф, хоть и относительный, но живой, противоречивый, изменчивый, неизменно присутствующий в современном российском фольклоре и обиходе. Об этом свидетельствуют не только встречающиеся иногда портреты Сталина на ветровых стеклах автомобилей в глубинке, но и его изображение на иконе (sic!), посвященной блаженной Матроне Московской, местночтимой столичной святой.
Псевдомифы в «электронной деревне». Современная эпоха электронной революции и повсеместной цифровизации размывает политические государственные границы, воплощая давние предсказания М. Маклюэна о «глобальной деревне» (Маклюэн, 2014). Однако глобализация отразилась в первую очередь в том, что к концу ХХ в. одиночество превратилось в характерное явление для большинства населения Земли. Знаменитый британский социолог и философ З. Бауман назвал новое общество «индивидуализированным». Оно, по его мнению, являет собой результат модернизации и разрегулированности социально-экономических, политических, духовно-нравственных и культурных связей и взаимодействий. Согласно З. Бауману, «мы вступили на территорию, которая никогда прежде не была населена людьми, – на территорию, которую культура в прошлом считала непригодной для жизни» (Бауман, 2005: 316). Утрачен баланс между общественным и частным, разрушаются прежние формы социальности. Индивидуализированное общество формально представляет собой полиэтничную, поликультурную, динамичную, городскую (по преимуществу) среду. Но в реальности ментально это «глобальная деревня», в которой ослабевают традиционные этнические связи, особенно в молодежной среде (Кляйненберг, 2018).
Значительно большую роль играют новые культурные общности – квази-этносы, имеющие в том числе политический характер. В них формируются свои псевдомифы, вырастающие часто из навязанной идеологии, обретающей силу изначальных мифов для тех, кто остро ощущает свое одиночество как личную проблему, осознанно или бессознательно ищет возможность социальной адаптации и самоидентификации. Наряду с привычным политическим фастфудом современный одиночка легко потребляет и духовный эрзац, включая политически продуманные и технично навязываемые псевдомифы; они «вирусятся» на сайтах Интернета, в соцсетях и в хеште-гах, мемах, социальной рекламе и т.д. уже как общепринятые и в то же время модные и объединяющие сигналы. Сначала виртуально, а затем и «в реале» происходит личное общение, в котором мифы требуют конкретной совместной («ритуальной») деятельности. В политической сфере это раздачи флайеров, участие в демонстрациях, флешмобах, политических акциях… Закулисные политтехнологи предусматривают, что может стать псевдомифологической основой организации политических квазиэтносов: для подростков – нарративы из анимэ, в которых одинокие герои обретают сверхсилы и становятся супергероями; для «офисного планктона» – сюжеты из новомодных руководств, как стать успешным, как сделать карьеру и т.д.; для скучающих домохозяек – романтические истории о политических аутсайдерах, которые, несмотря на возможность сделать карьеру, например, в модельном бизнесе, выбирают героический путь борьбы со злом и отстаивания политических прав и свобод простых граждан… Новые «деревенские» нравы в условиях цифровой глобализации позволяют проводить жестокие социально-политические эксперименты по целенаправленному воздействию на менталитет этносов, подменяя абсолютную мифологию тщательно разработанным политико-мифологическим эрзацем. Но это не имеет значения для тех закулисных первопредков квазиэтносов, которым, в сущности, нет дела до конкретных людей, поскольку кукловоды решают свои политические задачи и воплощают никому не известные социально-политические программы.
Выводы . Таким образом, современные политические мифы представляют собой мозаику самых разнообразных результатов культурной деятельности. Это и трансформированные, осовремененные «абсолютные» мифы, неизменно варьируемые в этнических культурах. Это и псевдомифы, профессионально разрабатываемые политтехнологами для решения конкретных политических задач. Это и рассчитанные на новые социальные формы традиционные и искусственные политические псевдомифы, рассчитанные на новые социальные общности (квазиэтносы), порожденные глобализированным индивидуализированным обществом. Действенность и долговечность всех существующих мифов определяется их изначальной связью с этническим (народным, национальным) менталитетом и значимостью определяющих их ценностей.
Список литературы Современные политические мифы и псевдомифы в аспекте теории этногенеза
- Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2005. 390 с.
- Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1993. 499 с.
- Кассирер Э. Философия символических форм: в 3 т. М. ; СПб., 2002. Т. 2. 280 с.
- Кляйненберг Э. Жизнь соло. Новая социальная реальность. М., 2018. 279 с.
- Кравченко В.В. Мистика в космосе культуры. Ridero, 2023. 780 с.
- Кравченко В.В. Симфония человеческой культуры. М., 2017. 384 с.
- Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 2001. 512 с.
- Леви-Стросс К. Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль. М., 2008. 520 с.
- Лосев А.Ф. Диалектика мифа. Дополнение к «Диалектике мифа». М., 2022. 696 с.
- Маклюэн М. Понимание медиа: внешние продолжения человека. М., 2014. 464 с.
- Малиновский Б. Миф в примитивной психологии. Посвящение сэру Джеймсу Фрэзеру // Вестник культурологии. 2004. № 1. С. 40–94.
- Прибыткова Е.А. Политические мифы // Личность. Общество. Государство. СПб., 2008. С. 36 –44.
- Щербинина Н.Г. Символическое конструирование мифо-героической политической реальности России // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 2 (3). С. 18–37.
- Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. 144 с.