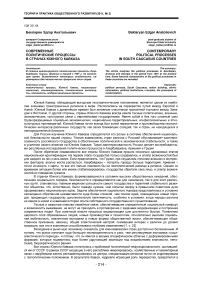Современные политические процессы в странах Южного Кавказа
Автор: Бекларян Эдгар Анатольевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Политические науки
Статья в выпуске: 3, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются политические процессы Азербайджана, Грузии, Армении в период с 1991 г. по настоящее время. Выявляются некоторые особенности, характерные для политических процессов этих стран.
Политический процесс, южный кавказ, нациестроительство, этнонационализм, политические институты, клановость, модернизационные процессы
Короткий адрес: https://sciup.org/14933209
IDR: 14933209 | УДК: 321.64
Текст научной статьи Современные политические процессы в странах Южного Кавказа
Южный Кавказ, обладающий выгодным геостратегическим положением, является одним из наиболее значимых трансграничных регионов в мире. Располагаясь на перекрестке путей между Европой и Азией, Южный Кавказ с древнейших времен был активным участником транзитной торговли между Западом и Востоком. С другой стороны, страны Южного Кавказа всегда имели тесные политические, военные, экономические, культурные связи с европейскими государствами. Являя собой и без того сложный узел трудноразрешимых социально-экономических, национально-территориальных, конфессиональных и этнокультурных противоречий, Южный Кавказ почти всегда был зоной пересечения и противоборства геополитических интересов различных государств, как своих ближайших соседей, так и стран, не находящихся в непосредственной близости.
Для России изучение Южного Кавказа определяется его ролью в системе обеспечения национальной безопасности нашей страны. Тесная взаимосвязь стран региона с Россией обуславливает заинтересованность российского государства в обеспечении политической и экономической стабильности, а также в усилении своего влияния на Южном Кавказе. Такая заинтересованность России делает востребованными регулярные исследования политических процессов в Азербайджане, Армении и Грузии.
После обретения независимости все страны Южного Кавказа прошли несколько одинаковых этапов национальной идентификации. На первом этапе государства только создавались, и спектр возможностей был для каждого из них очень велик. Если предположить, что Грузия, при неудачном стечении внешних и внутренних факторов, вполне могла распасться, Азербайджан – потерять гораздо больше территорий, Армения – почти исчезнуть с карты, то все это сильно повлияло бы на геополитический расклад в регионе. Однако со временем ситуация более или менее стабилизировалась, государства обретали свое лицо, и спектр возможностей их поведения сужался.
В странах Южного Кавказа, формировавшихся в условиях высоких общественных ожиданий, обеспечение социального порядка, безопасности и справедливости как для населения, так и для элит различных групп, становилось главным мерилом успешности самого государства и гарантией стабильного развития общества, что, естественно, было гораздо нужнее, чем попытки сверху в привычном советском духе сформировать национальную идею. Задача обеспечения социального порядка представлялась в условиях неожиданно обретенной независимости куда более сложной, чем поиски идей, освящающих новый порядок, придающих государству дополнительную легитимность, особенно в условиях, когда народы региона не имели в новой и новейшей истории опыта собственного государственного существования.
Тесные и закрытые кланово-семейные связи, обеспечивавшие определенный социальный комфорт и возможность выживания, не могут не приходить в противоречие с задачами модернизации и построения современных наций. При советской власти процессы модернизации шли достаточно быстро. Появление широкого слоя образованных людей, новые производства и технологии, относительно высокая социальная мобильность, вовлечение молодежи в новые формы общественной жизни, обеспечивающие общественное признание, наконец, общий атеистический настрой, снижавший интерес к религии до уровня традиции, все это в комплексе способствовало глубоким изменениям [1, c. 22].
Вхождение в рыночную экономику оказалось для южнокавказских стран достаточно болезненным. И потому, что рынок означает куда большую неопределенность и риск, чем регулируемая экономика «социалистического периода», и потому, что он явился в весьма специфическом обличье с деформированными формами, которые подверглись еще более удручающей эволюции под воздействием клановости, непотизма, бюрократического рвения.
Все страны Южного Кавказа столкнулись с проблемой политической нефункциональности, доставшейся им от СССР. В рамках СССР входящие в него республики нивелировались, хозяйственные и гуманитарные связи с зарубежьем жестко регламентировались из центра, специализация регионов почти не коррелировала с геополитическим положением. В результате Кавказ, издревле играющий роль перекрестка, превратился в периферию Союзного государства, так как южнее него располагались страны, которые не были в составе СССР и даже «социалистического лагеря». Внешним выражением постсоветской общности, несомненно, являлись оставшиеся от советской власти системы властной вертикали, поскольку в момент ее создания реальное управление республиками осуществлялось из Москвы через комитеты КПСС, конституции союзных республик не должны были соответствовать требованиям политической функциональности [2, т. 1, с. 340]. Сразу после обретения независимости выяснилось, что в новых условиях эта нефункциональность стала мешать государственному строительству. В частности, для всех республик был характерен недейственный парламент и малоуправляемая структура исполнительной власти. Однако к настоящему времени проблема создания более или менее действенных законодательных органов и властных структур решена почти во всех постсоветских странах. Причем она решается наиболее адекватным для каждой страны образом.
Можно предположить, что в большинстве случаев произошло не создание, а восстановление характерных для этих обществ политических организмов, так или иначе сохранявшихся и при советской власти, несмотря на видимое единообразие политических структур. Очевидно, что в Советском Союзе, при внешне жесткой, унитарной системе политической власти (обкомы КПСС, местные советы, КГБ и пр.), в разных регионах эти институты наполнялись совершенно разным содержанием. Если в республиках Центральной Азии комитеты партии и сельсоветы представляли типичные для политической культуры соответствующих народов структуры феодальной администрации со сложной системой представительства различных территориальных кланов и субэтнических групп, то на Южном Кавказе они были скорее некоторым официальным прикрытием полукриминальных протобуржуазных элит [3, т. 2, с. 174]. В этом смысле в некоторых регионах бывшего СССР эти особенности даже не трансформировались в новые, а просто поменяли внешние признаки и идеологический антураж, в реальности не изменившись даже на персональном уровне.
После распада СССР во всех государствах Южного Кавказа наблюдается процесс их включения в общекавказский макрорегион. В последнее время многие аналитики употребляют термин «Новый Ближний Восток» [4, т. 9, с. 7], на наш взгляд, достаточно адекватно отражающий реалии. Однако стоит отметить, что речь идет пока только о тенденции, причем зарождающейся. Восстановление региональной идентичности – процесс тяжелый, иногда болезненный. Но сегодня признаки его уже очевидны: от проекта железной дороги из Грузии в Турцию до изучения персидского языка в некоторых ереванских школах. На уровне самосознания политических элит и социума эти изменения могут быть незаметны – политики объявляют Кавказ частью Запада или даже Европы (речь, конечно, идет не о географической, а о культурно-цивилизационной ориентации), однако то, что Армения или Азербайджан являются членами ОБСЕ, не делает их реально европейскими странами. В первую очередь, они – страны кавказские.
Во внутренних политических процессах во всех странах Южного Кавказа большую роль играют региональные державы. Россия в числе прочих региональных держав (Турция, Иран) является одной из важнейших внешних сил на Южном Кавказе. Бывшая метрополия обладает достаточно большими возможностями влияния на закавказские государства. Эти возможности объективны и существуют независимо от вектора осознанной политики российского правительства [5, p. 86]. Российские вооруженные силы находятся в одной (Армении) из трех государств региона, этнические славяне составляют существенный процент населения двух (кроме Армении) стран Южного Кавказа. Экономическое влияние бывшей метрополии на страны, ранее являвшиеся придатками огромного хозяйственного механизма и совершенно не приспособленные для самостоятельного существования, трудно переоценить. Длительное пребывание в роли периферии СССР сделало экономики этих стран абсолютно непригодными к нормальной конкуренции в условиях мирового рынка, тем самым жестко привязывая их к стране с тем же типом экономики, но при этом гораздо более мощной. Тем не менее российское влияние на Южном Кавказе является единственной внешней силой в регионе, имеющей тенденцию к уменьшению.
На наш взгляд, основной вектор политических процессов на Южном Кавказе – дезинтеграция. По сравнению с другими регионами СНГ, процессы политического и экономического дистанцирования от России на Южном Кавказе протекают более интенсивно. Этнополитические конфликты привели к блокадам в регионе. Из-за абхазского и югоосетинского конфликтов Грузия практически лишена возможности сухопутной доставки грузов из России. Армению от России отделяет, с одной стороны, Грузия, а с другой – Азербайджан, путь в который из России пролегает через Чечню и Дагестан [6, т. 2, с. 176].
Энергетический кризис, также явившийся следствием войн и блокад, привел к коллапсу промышленности советского типа (по крайней мере, в Грузии и Армении), в свое время, естественно, интегрированной в общесоюзный хозяйственный комплекс. Послереформенное экономическое развитие стран региона, когда связи субъектов экономики строятся по рыночному, а не директивному типу, также способствует дистанцированию от труднодоступной России.
Как нам представляется, вектор российской политики на Кавказе резко не изменится хотя бы потому, что влияние России в регионе объективно и зависит в основном от долговременных факторов. В будущем балансе сил в регионе Россия заведомо будет занимать одно из важных мест, как оно и было в начале XIX в., когда Россия еще не завоевала Южный Кавказ. Это подтвердили события в Южной Осетии в августе 2008 г. [7, с. 147].
Таким образом, одной их главных задач политического процесса стран Южного Кавказа выступает построение нации. Страны Южного Кавказа пытаются компенсировать отсутствие опыта государственного строительства заимствованием внешних моделей. Избрание в 1990-х гг. этнонационализма в качестве главного принципа построения нации породило целый ряд проблем, угрожающих самому существованию государств. Этнические конфликты и сепаратистские настроения угрожают дальнейшему развитию государственности. Территориальные проблемы усугубляются политическими противоречиями. Страны Южного Кавказа с момента обретения независимости постоянно стремятся преодолеть разрыв между современно- стью и традиционализмом на своем политическом поле, устранить несоответствие, порождаемое наличием формальных демократических процедур и авторитарных неформальных практик.
Анализ политики Грузии, Азербайджана и Армении позволяет сделать вывод, что динамика политического процесса в этих странах отличается более высокими темпами усиления адаптивности политических институтов при относительно низких темпах роста автономии, сложности и сплоченности. Вероятнее всего, это объясняется политикой периферийности, заинтересованностью стран центра (США, страны Европы) в ориентации политических процессов южнокавказских стран, что выливается в больший уровень адаптивности их политической системы. Рост автономии, сложности и сплоченности ограничивается особенностями экономики, культуры и социальной структуры государств Южного Кавказа. Принятие политических решений по-прежнему сосредоточено в рамках узкого круга политических институтов. Деятельность самих этих институтов в сильной степени зависит от неполитических сил и групп. Между институтами постоянно возникают противоречия, усложняющие достижение общенациональных целей.
Ссылки: References (transliterated):
-
1. Абылхожин Ж.Б. Мифовоспринимающее сознание и его1.
-
2. Маркедонов С.М. Постсоветский Южный Кавказ: традици-2.
-
3. Искандарян А. Государственное строительство и поиск поли-3.
-
4. Южный Кавказ: тенденции и проблемы развития (1992–4.
-
5. Crisis Management in the CIS: Wither Russia? / H.-G. Ehrhart, A.5.
-
6. Искандарян А. Указ. соч.6.
-
7. Захаров В.А., Арешев А.Г. Кавказ после 08.08.08: старые7.
суггесторы // Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана / под ред. Н.Э. Масано-ва, Ж.Б. Абылхожина, И.В. Ерофеевой. Алматы, 2007.
онализм плюс модернизация // Прогнозис. 2007. № 1 (9).
тической идентичности в новых странах Закавказья // Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 2.
2008 гг.) / отв. ред. и рук. авт. кол. В.А. Гусейнов. М., 2008 ;
Дегоев В.В. Кавказ и Большая Европа // Аналитические записки Научно-координационного совета по международным исследованиям. М., 2005.
Kreikemeyer, A.V. Zagorski. Baden-Baden, 1995.
игроки в новой расстановке сил. М., 2010.
Abylhozhin Z.B. Mifovosprinimayushchee soznanie i ego suggestory // Nauchnoe znanie i mifotvorchestvo v sov-remennoy istoriografii Kazahstana / ed. by N.E. Masanov, Z.B. Abylhozhin, I.V. Erofeeva. Almaty, 2007.
Markedonov S.M. Postsovetskiy Yuzhniy Kavkaz: traditsional-izm plyus modernizatsiya // Prognozis. 2007. No. 1 (9).
Iskandaryan A. Gosudarstvennoe stroitelʹstvo i poisk politich-eskoy identichnosti v novyh stranah Zakavkazʹya // Tsen-tralʹnaya Aziya i Kavkaz. 2000. No. 2.
Yuzhniy Kavkaz: tendentsii i problemy razvitiya (1992–2008 gg.) / executive ed. andhead og auth. count. V.A. Guseynov. M., 2008 ; Degoev V.V. Kavkaz i Bolʹshaya Evropa // Analit-icheskie zapiski Nauchno-koordinatsionnogo soveta po mezhdunarodnym issledovaniyam. M., 2005.
Crisis Management in the CIS: Wither Russia? / H.-G.
Ehrhart, A. Kreikemeer, A.V. Zagorski. Baden-Baden, 1995. Iskandaryan A. Op. cit.
Zaharov V.A., Areshev A.G. Kavkaz posle 08.08.08: starye igroki v novoy rasstanovke sil. M., 2010.
Список литературы Современные политические процессы в странах Южного Кавказа
- Абылхожин Ж.Б. Мифовоспринимающее сознание и его суггесторы//Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана/под ред. Н.Э. Масанова, Ж.Б. Абылхожина, И.В. Ерофеевой. Алматы, 2007.
- Маркедонов С.М. Постсоветский Южный Кавказ: традиционализм плюс модернизация//Прогнозис. 2007. № 1 (9).
- Искандарян А. Государственное строительство и поиск политической идентичности в новых странах Закавказья//Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 2.
- Южный Кавказ: тенденции и проблемы развития (19922008 гг.)/отв. ред. и рук. авт. кол. В.А. Гусейнов. М., 2008
- Дегоев В.В. Кавказ и Большая Европа//Аналитические записки Научно-координационного совета по международным исследованиям. М., 2005.
- Crisis Management in the CIS: Wither Russia?/H.-G. Ehrhart, A. Kreikemeyer, A.V. Zagorski. Baden-Baden, 1995.
- Захаров В.А., Арешев А.Г. Кавказ после 08.08.08: старые игроки в новой расстановке сил. М., 2010.