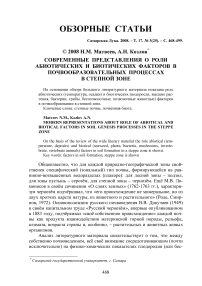Современные представления о роли абиотических и биотических факторов в почвообразовательных процессах в степной зоне
Автор: Матвеев Н.М., Козлов А.Н.
Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl
Рубрика: Обзорные статьи
Статья в выпуске: 3 т.17, 2008 года.
Бесплатный доступ
На основании обзора большого литературного материала показана роль абиотических (температура, осадки) и биотических (водоросли, высшие растения, бактерии, грибы, беспозвоночные, позвоночные животные) факторов в почвообразовании в степной зоне
Степные почвы, почвенная биота
Короткий адрес: https://sciup.org/148314741
IDR: 148314741
Текст обзорной статьи Современные представления о роли абиотических и биотических факторов в почвообразовательных процессах в степной зоне
Общеизвестно, что для каждой природно-географической зоны свойственен специфический (зональный) тип почвы, формирующейся на равнинно-возвышенных водоразделах (плакоре): для лесной зоны – подзол, для зоны пустынь – серозём, для степной зоны – чернозём. Ещё М.В. Ломоносов в своём сочинении «О слоях земных» (1762-1763 гг.), характеризуя чернозём подчёркивал, что «его происхождение не минеральное, но из двух протчих царств натуры, из животного и растительного» (Роде, Смирнов, 1972). Основоположник русского почвоведения В.В. Докучаев (1949) в своём капитальном труде «Русский чернозём», впервые опубликованном в 1883 году, подчёркивал «своё собственное происхождение» каждой почвы как продукта взаимодействия материнской горной породы, рельефа, климата, возраста страны и, особенно, – растительных и животных живых организмов.
Анализ литературного материала свидетельствует о том, что между собственно почвоведением, всё своё внимание сосредотачивающим (почти исключительно) на физико-химических показателях плодородия (или бес-
Самарский государственный университет, г. Самара плодия) почв, и биологими-натуралистами, озабоченными (главным образом) выявлением разнообразия флоры и фауны (изредка также – фитоценозов, орнитокомплексов, энтомокомплексов и т.п.) до сих пор чаще всего нет не только согласованности, но и простого взаимопонимания. В связи с этим есть необходимость в современной оценке особенностей взаимодействия абиотических и биотических факторов в почвообразовании, чему и посвящена эта работа. Данную проблему мы рассмотрим на примере степных почв.
Значение климата как фактора почвообразования было впервые охарактеризовано В.В. Докучаевым (1954) в 1883 году. Основным источником энергии для процессов жизни, а, следовательно, и почвообразования служит солнечный свет. Приток световой и тепловой энергии на поверхность почвы зависит от положения местности, характера рельефа и особенностей растительного покрова (Тарасов, Сукачёв, 1981; Ахтырцев, 1999; Лопатин и др., 2002; Воробьёва, 2005; Хромых, 2006). В соответствии с изменением радиационного баланса по мере продвижения от полярных областей к экваториальным увеличивается интенсивность выветривания, фотосинтеза и образования органического вещества, жизнедеятельности животных и бактерий (Ковда, 1973а). В этом же направлении возрастает биологическая активность почвы, интенсивность почвообразовательного процесса в целом, разрушения минералов, разложения органического вещества и выщелачивания, а так же приток, накопление и синтез новых минеральных и органических соединений (Волобуев, 1973; Орлов, Бирюкова, 1984).
В степной зоне при возрастании среднегодовых температур наблюдается утяжеление механического состава и уменьшение содержания азота и гумуса (Ковда, 1973б, 1985; Болдырев, 1993). Тепло также влияет на испарение влаги и во-многом определяет водный баланс почвы. С поступлением влаги в почву связаны процессы гумусообразования, гидролиза первичных и формирования вторичных глинистых минералов. С увеличением среднегодового количества осадков увеличиваются ёмкость поглощения, содержание гумуса и азота, возрастает глубина залегания карбонатов (Раменский, 1938, 1950; Возбуцкая, 1964; Соколов, Иваницкая, 1971; Титля-нова и др., 1996; Розанов, 2004; Уткаева, 2005). В общепланетарном масштабе сумма осадков, выпадающих за год, возрастает от полюсов к экватору. Однако распределение осадков на суше имеет пятнистый характер (Ковда, 1973а). В зоне настоящих (типичных) степей наиболее чётко выражены континентальность, засушливость и неустойчивость увлажнения. Климат Степей характеризуется жарким летом, продолжительной и тёплой осенью, холодной зимой с перепадами температур и непродолжительной весной, большой амплитудой температурных колебаний, незначительным годовым количеством осадков (200…500 мм) с существенным варьированием в различные годы, сильными ветрами с пониженной влажностью воздуха и интенсивной испаряемостью, превышающей годовое количество осадков. Для степного климата помимо сезонных характерны также значительные суточные колебания температуры (Бельгард, 1950, 1971).В преде- лах степной зоны по мере продвижения с запада на восток отмечается общее нарастание континентальности и резкое уменьшение влажности воздуха (Бельгард, 1971). Это хорошо иллюстрируется данными, обобщёнными Н.М. Матвеевым (1994) для зоны настоящих степей на примере Приднепровья и Заволжья (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика климатических условий степного Приднепровья и степного Заволжья в подзоне обыкновенного чернозёма (по Н.М. Матвееву, 1994)
|
Показатели |
Приднепровье |
Заволжье |
|
Среднегодовая температура, °С |
+7,9…+8,4 |
+4,0…+5,0 |
|
Среднемесячная температура, °С: января июля |
-1,1…-5,7 +21,5…+22,2 |
-12,4…-13,5 +21,4…+21,6 |
|
Сумма температур выше +10° С |
2800…3300 |
2500…2700 |
|
Безморозный период, дни |
147…172 |
140…145 |
|
Среднегодовая сумма осадков, мм |
300…480 |
300…350 |
|
Испаряемость влаги за год, мм |
650…750 |
500…600 |
|
Повторяемость сильно засушливых лет за 10летний период |
1…2 |
4…6 |
|
Мощность снегового покрова, см |
5…20 |
30…50 |
Установлено, что степное Заволжье по сравнению со степным Приднепровьем характеризуется меньшим количеством тепла и осадков, сокращением вегетационного периода, увеличением количества засух и резким снижением зимних температур.
В период засухи надземные части степных трав отмирают и тем самым сокращают свою транспирационную поверхность (Бельгард, 1950, 1971; Альбицкая, 1960; Тарасов, 1981). Фитоклимат в степных сообществах в силу их недостаточной сомкнутости и незначительной массы выражен слабо. Гетеротрофными (бесхлорофильными) организмами, обусловливающими процесс минерализации органических остатков степных растений, являются преимущественно аэробные бактерии (Вильямс, 1922, 1949а, 1954; Бельгард, 1971, Ковда, 1956, 1973б; Мишустин, 1972).
По данным В.Р. Волобуева (1953), О.Н. Бирюковой, Д.С. Орлова (2004) наиболее полно разложение органического вещества происходит при влажности 60…65 % и температуре +45…+50 °С. В условиях степной зоны при недостатке влаги и высокой контрастности режима увлажнения процессы минерализации органического вещества задерживаются (Цветкова, 1992; Воробьёва, 2005) и в почве происходит накопление гумуса. Состав гумуса зависит от гранулометрического состояния почвы (Болдырев, 1993; Ахтырцев, Ефанова, 1998; Рыжова и др., 2003) Слабое промачивание почв как следствие отрицательного баланса влаги в степной зоне и обилие органических веществ, ежегодно поступающих в почву, приводят к тому, что в черноземах интенсивно развивается перегнойно-аккумулятивный процесс, сопровождающийся значительным накоплением гумуса (Докуча- ев, 1949; Тюрин, Найденова, 1951; Мильков, 1953, Ганжара, 1974, 1986, 1997; Гришина, Орлов, 1978; Придворев и др., 2006; Русаков, 2006). В почвенном поглощающем комплексе черноземов много кальция и магния (Мильков, 1953, Травлеев, 1972а, 1972б). Во многом это является следствием карбонатности материнских пород, однако известно (Пономарёва, 1956), что процесс почвообразования в районах севернее чернозёмной зоны ведёт к раскарбоначиванию исходно карбонатных материнских пород. Наличие кальция и магния в чернозёмах способствует закреплению в почве гумуса (в характерной форме гуматов Са) и формированию структуры (Милановский, 2000; Милановский, Шеин, 2002).
Зональные почвы степной зоны – черноземы являются автоморфными образованиями (Докучаев, 1949). Черноземный тип почвообразования с характерным для него значительным гумусонакоплением, нейтральной реакцией и преобладанием в поглощающем комплексе кальция связан со степными сообществами и умеренно засушливым климатом (Лавренко, 1940; Растительность европейской …, 1980; Леса России …, 2004). Черноземные почвы относятся к импермацидному (непромывному) типу (Бельгард, 1971; Роде, Смирнов, 1972; Казеев и др., 2004).
Основные представления о гумусе почв вообще и чернозёмов в частности были разработаны И.В. Тюриным (1937, 1940, 1949, 1965) и в последствии развиты в работах М.М.Кононовой (1956, 1963, 1976), В.В Пономарёвой (1956, 1964, 1974, 1980), Д.С. Орлова (1988, 1990), Д.С. Орлова и О.Н. Бирюковой (1984), Д.С. Орлова и др. (1997). Исследованию гумусного состояния чернозёмов посвящено большое количество работ российских и зарубежных авторов (Адерихин, Шевченко, 1968; Лаврентьев, 1972; Адерихин, Ахтырцев, 1980; Александрова, 1980; Черников 1992; Лейфман, 1993; Hayes, 1985; Shnitzer, 1978; Stevenson, 1982). Гумус в черноземах убывает с глубиной постепенно до содержания 1% и менее в слое 110…120 см, при этом его качественный состав меняется неадекватно изменению общего количества (Щеглов, 1999).
По причине ослабленного процесса выноса карбонатов в связи с малым количеством осадков, на небольшой глубине (в почвенной толще или же несколько глубже, в материнской породе) формируется горизонт накопления извести (горизонт вскипания). По заключению В.В. Пономарёвой (1956), формирование карбонатного горизонта чернозёмов происходит вследствие полной минерализации богатых кальцием органических остатков степных растений с последующей миграцией СаСО 3 вниз по профилю. Отличительная черта черноземов - наличие водопрочной, обычно зернистой структуры, благодаря которой в почву легко проникают и атмосферная влага, и воздух, необходимые для роста растений (Мильков, 1953; Травлеев, 1972б).
Черноземы в своем типичном виде представлены лишь на водоразделах («плакорах»). В.В. Докучаев (1949) такой чернозем называл «горовым». Лугово-черноземные почвы нижних надпойменных террас сохраняют ряд признаков, свидетельствующих о былом пойменном режиме. Гуму- совый горизонт у них не отличается постоянством, иногда они засолены, в других случаях заболочены (Гаркуша, 1963). На верхних надпойменных террасах лугово-черноземные почвы приближаются к черноземам и получили в литературе название «долинных черноземов» (Почвы …, 1984; Природа …, 1990). Отличительной чертой «долинных черноземов» служит повышенная мощность и малое содержание гумуса по сравнению с рядом расположенными плакорными подтипами чернозема. Главная причина этого своеобразия заключается в характере материнских пород (Мильков, 1953; Быковская, 2004). Последними на надпойменных террасах чаще всего являются аллювиальные отложения - рыхлые и менее карбонатные, чем залегающие на водоразделах почвообразующие породы. Некоторое значение имеет также то обстоятельство, что на плоских надпойменных террасах резко ослабевают процессы смыва почв (Мильков, 1953; Роде, Смирнов, 1972).
Черноземы при повышенном увлажнении в условиях долины реки изменяют свои свойства (Казеев и др., 2004; Макеева, 2004, Николаева, Рождественская, 2004; Гусарова, 2006). В частности, при повышенном увлажнении в чернозёмах отмечается увеличение содержания подвижных фракций гуминовых и фульвокислот и потеря фракций, связанных с Са (Ильина, Калиниченко, 2005). Последние же выполняют ведущую роль в образовании структурных агрегатов почвы (Милановский, 2000; Милановский, Шеин, 2002; Уткаева, 2005; Русанов, 2006; Хромых, 2006). Консервативные химические и физические характеристики почв при переувлажнении, как и при других воздействиях, меняются значительно медленнее, чем их биологические (биохимические) свойства. Влага как мощный экологический фактор оказывает многостороннее воздействие на почвенную биоту (Казе-ев и др., 2004). При этом в зависимости от степени и срока воздействия происходит замена одних организмов другими и перестройка всего биоценоком-плекса (Бельгард, 1971; Травлеев, 1972а).
Биологический круговорот, присущий лесному сообществу, наиболее типично протекает в лесной зоне, где существует полное «географическое соответствие» леса условиям существования (Бельгард, 1971). К северу и югу от лесной зоны в широтном направлении встречаются местообитания, которые служат ареной для других типов биологического круговорота, присущих тундровым, степным и пустынным сообществам (Бельгард, 1971).
Географическое соответствие и несоответствие леса условиям произрастания в той или иной зоне прежде всего выражается на плакорных местообитаниях, как наиболее полно отражающих почвенно-климатические особенности зоны (Высоцкий, 1962; Бельгард, 1971). Однако в пределах любой природно-географической зоны, помимо плакорных условий, существует значительное количество экстра- и интразональных местообитаний, обусловленных причинами геоморфологического и эдафического порядка, где лесорастительные условия могут то улучшаться, то ухудшаться по сравнению с типичным для данной зоны плакором (Бельгард, 1971). В ус- ловиях речных долин факторы незонального характера наиболее выражены (Берг, 1952; Тимофеев, 1971, 1975)
В пределах степной зоны, где доминируют местообитания, соответствующие ксерофильным степным травянистым сообществам, встречаются эдафотопы, в которых в силу определённых условий возможно появление лесных насаждений; во всех «нелесных» зонах такими оптимальными позициями обладают речные долины, а в степной зоне – также ещё и балочные местообитания (Бельгард, 1971).
Кроме того, древесные и кустарниковые растения, образующие лесные сообщества, обладают значительной способностью преобразовывать степную среду (в первую очередь, – климат и почвы) (Бельгард, 1971; Дмитриев, 1997). Фитоклимат лесных насаждений отличается более равномерным температурным режимом, большей влажностью воздуха и ослаблением ветровых потоков по сравнению с фитоклиматом открытой степи (Чугай, 1960; Погребняк, 1968; Афанасьева и др, 1986; Грицан, 1986). В условиях Степи лесное насаждение получает столько же атмосферных осадков, сколько примыкающие участки со степной растительностью. Однако значительная часть зимних осадков в степной зоне теряется вследствие сноса их ветром в овраги и балки, а также за счёт частичного стока талых вод по мёрзлой почве (Погребняк, 1968; Бельгард, 1971, Веретельни-ков, Рядовой, 1997). Достаточно крупное лесное насаждение задерживает на своей площади весь выпавший снег, а на опушках накапливает его дополнительное количество (Бельгард, 1971). Общее количество влаги, поступающее в осенне-зимне-весенний период в почву под лесом в Степи, может на 50…100% превышать её количество, поступающее на соседних степных участках (Роде, Смирнов, 1972; Кузнецов, Милюков, 1986).
Для лесной растительности в лесной зоне свойственны почвы подзолистого типа с небольшим накоплением гумуса, кислой реакцией и наличием водорода в поглощающем комплексе (Пономарёва, 1956, 1964; Роде, Смирнов, 1972; Карпачевский, 1981; Карпачевский, Строганова, 1989; Болдырев, 1993), а в условиях Степи лес способствует обогащению почвенного субстрата гумусом и улучшает его структуру (Бельгард, 1971; Травлеев, 1972а, 1977; Lal, 2005).
Так, из табл. 2 видно, что почвы лесных биогеоценозов по сравнению с почвой целинной степи характеризуются повышенным содержанием гумуса, в чем выражается воздействие леса, а также гуматным типом гумуса.
Специфика химизма опада и отпада лесных растений заключается в большом накоплении углеводов, непредельных жирных кислот, лигнина, дубителей, смол (Травлеев, 1972а). В лесных сообществах накопление органического вещества в надземных органах больше, чем в подземных (Бельгард, 1971; Евдокимова и др, 1974). Ежегодно наблюдается отмирание листьев и веточек (Погребняк, 1968; Бельгард, 1971). Изъятие органического вещества из круговорота является долговременным (Бельгард, 1971; Болдырев, 1993). Органический опад обеспечивает возврат в почву части зольных элементов и азота, ранее изъятых из почвы лесными расте- ниями (Травлеев, 1972а). Опад образует лесную подстилку, которая тесно связана с почвой и оказывает существенное влияние на почвообразование (Бельгард, 1971; Травлеев, 1972а). Органический опад и лесная подстилка в степных лесах являются важными звеньями в системе «растительность – почва – растительность» (Травлеев, 1972а; Стебаев и др, 1993). В лесных биогеоценозах зоны настоящих степей подстилка, как правило, формирует ряд: опад→ подстилка→гумус (Травлеев, 1972а).
Таблица 2
Содержание гумуса и его групповой состав в почвах байрачных лесов и степной целины Присамарья Днепровского (подзона разнотравно-типчаково-ковыльных степей обыкновенного чернозёма (по А.П. Травлееву, 1972а)
|
Тип биогеоценоза и местоположение почвенного разреза |
Глубина, см |
Содержание гумуса, % |
С ГК /С ФК |
|
0-28 |
4,2 |
2,0 |
|
|
Степная целина на водоразделе |
28-55 |
3,5 |
2,2 |
|
55-84 |
1,8 |
2,1 |
|
|
0-10 |
6,8 |
3,1 |
|
|
Осинник на склоне северо-западной |
10-27 |
5,2 |
2,8 |
|
экспозиции |
27-74 |
3,5 |
2,1 |
|
74-103 |
3,2 |
1,5 |
|
|
0-60 |
7,5 |
1,8 |
|
|
Влажная липово-вязовая дубрава в |
60-100 |
5,2 |
1,4 |
|
тальвеге балки |
100-150 |
4,3 |
1,4 |
|
150-200 |
1,5 |
1,2 |
|
|
Суховатая ясеневая дубрава на склоне |
0-15 |
5,7 |
1,8 |
|
15-75 |
4,5 |
1,9 |
|
|
южной экспозиции |
75-100 |
2,0 |
2,0 |
В Степи под влияние лесной растительности формируются почвы, существенно отличающиеся по своему характеру от обыкновенных черноземов (Травлеев, 1972а). В поймах степных рек под лесом возникают почвы грунтового увлажнения, а в лесах на водоразделах, в условиях атмосферного непромывного типа увлажнения образуются своеобразные «лесные» почвы генетически черноземного типа почвообразования – «лесоулучшенные чернозёмы» и «чернозёмы лесные» (Травлеев, 1972а, 1977).
Возникновение и развитие «черноземов лесных» в аренных лесах (на песчаной надпойменной террасе) может происходить при этом двумя путями: непрерывно-нормальным, если лесной биогеоценоз первоначально поселился на исходной почвообразующей породе, и сложно-налагаемым – при искусственном создании лесонасаждений на уже сформированном степью черноземе обыкновенном (Травлеев, 1972а). В процессе расселения лесов и их средопреобразующего воздействия степные почвы (черноземы обыкновенные) подвергаются соответствующей перестройке. Подобную перестройку по изменению самобытных почв настоящей степи в сторону почв, приближенных к лесному типу биологического круговорота веществ,
А.Л. Бельгард (1971) предложил называть «сильватизацией». Противоположные пути развития почвы обусловлены процессами «десильватизации» (Бельгард, 1971; Травлеев, 1977).
В условиях зоны настоящих степей процессы сильватизации почв идут своеобразным путем, часто без появления признаков оподзоливания, в связи с чем А.П. Травлеев (1972а) считает необоснованным отнесение почв под лесной растительностью в степной зоне к черноземам выщелоченным, чернозёмам оподзоленным (деградированным) и серым лесным почвам. По его утверждению, почвы под лесами в Степи прошли особый путь становления и развития на фоне специфической зональной (степной) обстановки и должны рассматриваться в «зональном аспекте». В условиях степного плакора по А.Л. Бельгарду (1971) лес непрерывно пребывает в очаге налагающихся друг на друга двух типов круговорота веществ, и процесс сильватизации почвы находится в противоборстве с её остепнением.
По утверждению В.Р. Вильямса (1949), а до него – С.И. Коржинского (1891) под лесом происходит деградация чернозёма и подзолообразовательный процесс. Это заключение основано на материалах, полученных в лесо-луговой (лесостепной) подзоне и было перенесено и в условия степной зоны (Петров, 1937; Усов, 1938). Исследования С.В. Зонна (1954, 1964, 1983), В.Г. Стадниченко (1960), Е.А Афанасьевой (1966), И.А. Крупенни-кова (1959), А.П. Травлеева (1972а), П.Г Адерихина, З.С. Богатырёвой (1974) показали, что изначально под воздействием леса в «степных» чернозёмах возрастает накопление гумуса, повышается водопрочность структуры и понижается уровень залегания карбонатов. В условиях степной зоны эти процессы наблюдаются как в чернозёмах, так и в каштановых почвах (Перлин, 1981; Газизуллин и др., 1998). Если лесное насаждение создано сравнительно недавно, почвообразовательный процесс под ним может сочетать в себе как «лесные», так и «степные» признаки. Наложение этих двух процессов друг на друга приводит к смене чернозёма обыкновенного на «лесоулучшенный чернозём» (Травлеев, 1972а). Исследования, поведённые А.П. Травлеевым и П.П. Чабаном (1972), показали, что в естественных байрачных лесах степной зоны Украины формируются почвы чернозёмного типа, которые могут быть классифицированы как «чернозёмы лесные» различной степени декарбонизации, лессивированности и гумус-ности.
Почвам лесных биогеоценозов в Степи присуща дифференциация (по плотности) на элювиальный и иллювиальный горизонты (Травлеев, 1968, 1972а). Такая дифференциация почвенного профиля обусловлена лессива-жем, который связан с механическим перемещением водой ила из верхних горизонтов в нижележащие (Травлеев, 1972а). Об этом свидетельствуют физико-химические харктеристики почвенного профиля (нейтральная реакция, высокая насыщенность почвенного поглощающего комплекса, гу-матный кальциевый тип обмена), кривые распределения ила и микромор-фологическая оценка шлифов (Травлеев, 1972а; Белова, 1985, 1997). Почвообразовательный процесс в «черноземах лесных» сопровождается также накоплением в них SiO2, что обусловлено его биогенной аккумуляцией лесной растительностью (в виде фитолитарий) и переносом через органический опад в верхние горизонты почвы (Зонн, Мина, 1951; Травлеев, Чабан, 1972;Травлеев, 1972а; Зонн, Травлеев, 1989).
Отмечается (Травлеев, 1968, 1972б), что «черноземы лесные» в степной зоне всегда отличаются гуматным кальциевым типом обмена веществ (Сгк/Сфк =>1); насыщенностью поглощающего комплекса основаниями (97,9…100 %) и, как правило, отсутствием обменного водорода. По данным А.П. Травлеева (1972а), в байрачных лесах степной зоны Украины и Молдавии «черноземы лесные» характеризуются ярко выраженным гумат-ным типом обмена, в их поглощающем комплексе ведущую роль играют двухвалентные катионы Са++ и Mg++. Как для почвы степной целины, так и для почв лесных насаждений, характерно доминирование «второй фракции» гуминовых кислот, присутствующей в форме гуматов кальция, а также фульвокислот в связанном виде (табл. 3).
Таблица 3
Фракционный состав гумуса в почве (горизонт 0…10 см) лесных биогеоценозов и степной целины в условиях Присамарья Днепровского (по А.П. Травлееву, 1972а), доля от общего углерода, %.
|
Тип биогеоценоза |
№№ фракций |
||||||
|
Гуминовые кислоты |
Фульвокислоты |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
1а |
1 |
2 |
3 |
|
|
Степная целина |
6,0 |
37,2 |
25,1 |
0,7 |
3,7 |
2,6 |
10,8 |
|
Свежая липово-ясеневая дубрава в пойме р. Самары Днепровской |
4,3 |
29,6 |
18,1 |
1,01 |
1,49 |
8,41 |
5,7 |
|
Суховатый бор на арене р. Самары Днепровской |
2,4 |
22,6 |
8,8 |
1,8 |
0,6 |
4,1 |
7,2 |
По данным Б.П. Ахтырцева (1956, 1971), под влиянием 80-летнего дубового насаждения на обыкновенный чернозём в верхнем (10…15 см) слое почвы отмечается высокое накопление валового гумуса и общего азота, однако наблюдается при этом и увеличение количества воднорастворимого гумуса, что указывает на повышенную степень его подвижности. На глубине 20…30 см содержание валового гумуса осталось прежним, однако также отмечается увеличение степени его подвижности. Одновременно с этим, в верхнем 10…15 – сантиметровом слое почвы под дубовым насаждением происходит интенсивная биологическая аккумуляция поглощённого кальция, снижение доли магния, гидролитической кислотности и повышение степени насыщенности основаниями.
А.П. Травлеев (1972а) отмечает, что в степной зоне в условиях повышенного увлажнения при подъеме уровня грунтовых вод почвообразовательный процесс под лесом сближается с луговым типом, но при этом подзолообразования не происходит.
В условиях степного Заволжья также наблюдается (Колоскова, 1956; Кретинин, Леонов, 1986) положительное влияние полосных и массивных лесных насаждений на аккумуляцию в почве органического вещества, азота и фосфора.
Почва в биогеоценозе выступает не только важнейшей частью среды (биотопа), но и основным блоком в биотическом круговороте веществ, а также главным аккумулятором энергии (Волобуев, 1958, 1974а, 1974б; Уткин, 1980; Флиндт, 1992; Большаков и др., 1998; Кулик и др., 1998; Колосова, 1999; Кулик, 2000, 2001,2003; Бобкова, Тужилкина, 2001).
С опадом травянистых растений в степных, луговых, лугово-степных сообществах в почву поступают не только разнообразные органические и минеральные соединения, но и заключенная в них энергия (Волобуев, 1958, 1974а, 1974б; Уткин, 1980). Так, в подзоне луговых степей и остеп-нённых лугов (Лесостепь) в почву ежегодно поступает в форме опада от 60 до 140 ц/га органической массы с содержанием в ней от 350 до 700 кг/га разнообразных химических элементов (Родин, Базилевич, 1965), участвующих в биотическом круговороте веществ (Титлянова, Тесаржова, 1991). Возврат в почву химических элементов в разнотравно-типчаковоковыльных степях обыкновенного чернозёма достигает 60%, а в засушливых типчаково-ковыльных степях южного чернозёма снижается до 40% (от содержания в фитомассе) (Родин, Базилевич, 1965). В живой фитомассе степных сообществ накапливается в процессе жизнедеятельности от 300 до 1800 кг/га различных зольных элементов, причём, в северных степях (обыкновенного чернозёма) они сосредоточены в подземных органах растений на 60…65%, а в засушливых степях (южного чернозёма) – на 85…95% (Титлянова, 1979).
Установлено, что каждый вид в составе фитоценоза по-разному потребляет из почвы и возвращает в почву с опадом азот, фосфор, калий и другие элементы (Басов, 1986; Цветкова, 2000а, 2000б). Отметим, что во время дождей в почву вымывается из надземных органов большое количество минеральных, а также органических (углеводы, органические кислоты) соединений (Гродзiнський, 1973; Матвеев, 1994). С корневыми выделениями растений в почву поступают аминокислоты, углеводы, органические кислоты, ферменты, витамины, фенолы, азот, фосфор, калий и др. (Гродзiнський, 1973; Каверзина, 1988; Прокушкин и др., 1988).
Доказано, что валовое содержание в почве биогенных веществ в течение года меняется мало, но подвижные, особо значимые для минерального питания растений соединения изменчивы (Лопатин, 1988). Особенно тесная связь обнаруживается между развитием растений и трофностью почвы в корненасыщеном слое. Общая (суммарная) трофность почвы в степной зоне прямо связана с гранулометрическим составом и возрастает с увеличением количества тонких фракций, в которых сосредоточены биогенные элементы , но уровень обеспеченности растений зависит от концентрации макро- и микроэлементов в почвенном растворе (Мигунова, 1988). Неглубокое залегание грунтовых вод существенно повышает не только влажность, но и трофность почвы за счёт подъёма снизу вверх питательных солей (Мигунова, 1988). Это снижает конкуренцию видовых ценопопуляций
(Журавлёва, 1987; Медведев, 1988) и способствует созданию оптимальных эдафических условий для развития не только травянистых (Медведев, 1988), но и лесных фитоценозов(Матвеев и др., 1980; Лоза, 1997, 1999а, 1999б, 2000а, 2000б; Олег, 2000; Белова, 2000; Беднев, Яковлева, 2005).
В современной России почвы в степной зоне представлены: чернозёмами оподзоленными – 9,8, чернозёмами выщелоченными – 20,08, чернозёмами типичными – 8,01, чернозёмами обыкновенными – 14,39, чернозёмами южными – 12,06 млн. га (Симакова и др., 1996). Они развиваются на плакорных, равнинно-возвышенных водоразделах и связаны в своём происхождении со степной растительностью. В долинах рек и глубоких балках формируются луговые, а также и лесные фитоценозы, в условиях которых почвы претерпевают специфические изменения под влиянием корневых систем, корнепада и опада луговых и лесных видов растений (Ремезов, 1956; Баранецкий, 1981а, 1981б; Матвеев, 1991, 1995, 1996, 2003а, 2003б, 2004; Дубина, 1997; Лоза, 2000а, 2000б; Авдеева, 2004; Матвеев и др., 1976, 1980, 1990, 1991, 1995, 2005). Особенно существенную трансформацию испытывают почвы, формирующиеся в лесных сообществах (Стадни-ченко, 1960; Травлеев, 1972а). Огромная надземная фитомасса древостоя степных лесов, достигающая 19,3…115,7 т/га (Матвеев и др., 2005), сосредотачивает в себе от 141,8 до 547,0 кг/га минеральных элементов (Ремезов, 1956), ежегодно возвращает в почву в форме надземного опада от 13,4 до 31,3 т/га органических и 3,0…6,6 т/га зольных веществ (Дубина, 1997).
Кроме того, из опада древесных растений атмосферными осадками выщелачиваются в почву: смолы, воска, терпены, дубильные вещества, воско-смолы, белковые вещества, органические кислоты, кумарины, флавоноиды, сапонины, катехины, индолпроизводные, гибберелинподобные соединения, гликозиды, фенолкарбоновые кислоты и другие соединения (Колесниченко, 1976; Баранецкий, 1981б; Мороз, 1990; Матвеев, 1994).
В травянистых сообществах (остепнённые луга, луговые степи, степи) при ежегодном надземном опаде 1,6…1,73 т/га в условиях степного Заволжья (Матвеев, 1991), как и в других регионах степной зоны (Дубина, 1997; Цветкова, 1992, 2000а, 2000б), осуществляется интенсивный биотический круговорот веществ. В лесных фитоценозах он характеризуется заторможенностью (Дубина, 1973, 1997; Цветкова, 1992, 2000а, 2000б; Авдеева, 2004).
При внесении в почву или при выносе из почвы того или иного вещества происходит внос или вынос заключённой в химических связях его молекул энергии (Волобуев, 1953, 1973; Вернадский, 1967; Голубець, 2000). Так, например, с отмирающей надземной фитомассой степных злаков (Sti-pa capillata L., Festuca valesiaca Gaud.) в почву поступает 4287…4311 кал/г, в пырейной ассоциации в подстилке аккумулировано 2926, в подземной фитомассе (корневища и корни) – 3348 кал/г, а в овсяницевой ассоциации – соответственно 2961 и 3396 кал/г абсолютно сухого вещества (Грищенко, 1981). По результатам исследований К.С. Бобковой и В.В. Тужилкиной (2001) в листовом опаде сосны обыкновенной заключено до 19,51, берёзы повислой – до 16,6 кДж/г сухого вещества энергии. В условиях степного Приднепровья в расчёте на 1 га аккумулируется энергии в опаде, подстилке и почве (0…10 см) соответственно: в разнотравно-типчаково-ковыльной степи 2,7∙108; 5,9∙108 и 134,1∙109; в краткопоёмной липовой дубраве на свежем суглинке – 2,8∙108; 4,4∙108 и 1000,1∙109; в пристенной липовой дубраве на свежем суглинке – 5,1∙108; 5,7∙108 и 851∙109; в бору на суховатом песке – 1,1∙108; 1,0∙109 и 242,9∙109 Дж энергии (Колосова, 1999; Кулик, 2001, 2003).
Аккумулируется энергия и в зоомассе. Так, в расчёте на 1 г сухой зоомассы приходится в среднем следующая энергия: черви – 22,11; ракообразные – 17,8; моллюски – 20,28; насекомые – 22,68; амфибии – 17,17; рептилии – 19,68; птицы – 23,32; млекопитающие – 20,43 кДж (Большаков и др., 1998).
Важную роль в почвообразовательных процессах в степной зоне выполняют микроорганизмы (Звягинцев, 1987). Почвенные водоросли выступают как фотосинтетики и увеличивают микробиологическую активность почвы (Алексахина, Штина, 1984; Яковлев, 2000; Кузяхметов, 2006). Особенно много в почвах степной зоны жгутиковых водорослей – хламидомонадовых (41 вид), на долю которых в подзоне Лесостепи приходится 25%, а в Степи – 7…8% от всей почвенной альгофлоры (Кузяхметов, 2006).
По данным А.Ф. Кулик (2000) в почве (0…10 см) целинной степи обнаруживается 4,63…12,2 млн/г бактерий и 3,75…15,0 млн/г актиномице-тов, а в почве естественных степных дубрав (пристенных и пойменных) – от 7,3 до 15,5 млн/г бактерий и от 8,4 до 10,7 млн/г актиномицетов. В песчаной и суглинистой почве искусственных сосняков в степном Заволжье преобладают микроскопические грибы, общая биомасса которых в несколько раз больше и биомассы водорослей, и биомассы бактерий (Овчинникова, 2005).
Как уже отмечалось, гравитационная влага выщелачивает из лесного опада и подстилки разнообразные вещества. Они могут угнетать развитие растений (Матвеев, 1994) и тормозят деятельность почвенных микроорганизмов (Коловский, Рукосуева, 1987). Грибы выступают инициаторами стратификации опада. Так, ещё перед опадением листья на деревьях интенсивно заселяются специфической микрофлорой с доминированием дрожжеподобных видов (Pullularia pullulans, Mycosphaerella ventura и др.) (Smith, Wiering, 1953). В опадном слое (L) подстилки отмечается максимальный динамизм и разнообразие химических соединений и, соответственно, наибольшее видовое разнообразие микрофлоры. Превалируют гри-бы-базидиомицеты, отдельные виды которых питаются и разлагают специализированные фракции: листья, ветки, плоды, кусочки коры, травянистые остатки и др. (Бурова, 1971; Чорнобай, 2000).
В ферментационном слое (F) подстилки растительный материал становится в результате разложения более однородным как по форме, так и по химическому составу. Микрофлора здесь также менее разнообразна, чем в опадном слое. Здесь много макромицетов (сапрофиты и ксилофиты) и плесневых грибов (питаются целлюлозой и хитином), максимум – актино-мицетов и бактерий (Бурова, 1971; Чорнобай, 2000). В этом слое осуществляется и наиболее полное разложение органических веществ, в том числе – сложных, углеродсодержащих молекул, что сопровождается интенсивным выделением СО2 (Stevenson, 1982). Здесь происходит активный синтез биомассы организмов-сапротрофов и концентрация гуминовых молекул (Stevenson, 1982).
В гумусовом слое (Н) подстилки резко снижается численность грибов и бактерий. Базидиомицеты представлены видами гумусовых сапроторфов, возрастает видовое разнообразие плесневых грибов, господствуют актино-мицеты, а бактерии представлены в споровой форме (Бурова, 1971). При переходе к перегнойно-аккумулятивному горизонту почвы обилие сапро-трофной микрофлоры резко сокращается, преобладают бактерии (Бурова, 1971; Чорнобай, 2000).
Установлено, что глюкоза, ацетат, пируват, урацил, уридин, аминокислоты, полисахариды и другие соединения, содержащиеся в растительных остатках, в течение трёх месяцев с начала разложения на 80% включаются в состав почвенной микробиоты (Kassim et al., 1981). После разложения растительной массы в течение года около 23% углерода фиксируется в биомассе почвенных микроорганизмов, в которых задерживается также много азота и других зольных элементов (Jenkinson, 1966). Средний уровень аккумуляции углерода в живых организмах почвы может превышать 2,5% его общего содержания в почве, а азота – от 0,5 до 15,3%. В расчёте на 1 га в биомассе почвенных микроорганизмов в среднем содержится: азота – 108, фосфора – 83, калия – 70, кальция – 11 кг (Anderson, Domsh, 1980).
Основной принцип разложения опада заключается в том, что каждая группа видов-редуцентов выступает со специфическими ферментами и разлагает, питаясь, определённый набор соединений, а деятельность одних видовых популяций редуцентов является необходимой предпосылкой (подготовкой) для реализации функциональной программы последующих популяций (Parkinson, 1973; Чорнобай, 2000).
В деструкции растительных остатков в опаде и подстилке важнейшая роль принадлежит животным-сапрофагам, в особенности – беспозвоночным (Соколов, 1956; Топчиев, 1960; Zachariae, 1965; Чернова, 1972, 1976, 1977; Злотин, 1972; Пилипенко, 1973; Стриганова, 1971, 1980, 1987, 1996, 2003; Seastedt, 1984; Edwards, Fletcher, 1988; Криволуцкий, 1994; Третьякова и др., 1996; Пахомов, 1998а, 1998б; Мамилов и др., 2000; Чорнобай, 2000). Отмечается, что, с одной стороны, между микрофауной и микрофлорой может складываться своеобразное равновесие (Третьякова и др., 1996), а, с другой стороны, почвенная микрофауна способна регулировать активность микроорганизмов (Мамилов и др., 2000). В частности, заглатывая вместе с растительными остатками бактерии и грибы, многоножки, мокрицы, дождевые черви пропускают их через свой кишечный тракт, где многие из них погибают под действием пищеварительной среды, а другие наоборот, активизируют своё развитие (Ву Нгуен Тхань и др, 1994; Бызов, Рабинович, 1997; Бызов, 2003). При разложении растительного опада микроорганизмы и животные образуют своеобразный «конвейер», механически размельчая и химически деструктируя материал, и неоднократно меняются местами (Zachariae, 1965; Чорнобай, 2000).
В разложении опада в растительных сообществах, в том числе в степных лесах, важную роль выполняют животные. До 90% опада в дубравах Лесостепи и Степи разлагается в связи с трофической деятельностью животных-сапрофагов, около 50% - при участии беспозвоночных (Гиляров, 1965, 1970; Злотин, Ходашова, 1974)
Установлено, что не только в деструкции органических остатков, но и в формировании физико-химических свойств почвы первостепенное значение имеют почвенные беспозвоночные (Гиляров, 1965; Курчева, 1971; Титишева, Сизова, 1983; Чернобай, Яворницкий, 1987; Стриганова, 2003). Доказано, что чем больше корневая масса в почве, тем значительнее видовое разнообразие, численность, биомасса беспозвоночных животных и тем выше содержание гумуса (Гиляров, 1965). Деструкция фитомассы беспозвоночными начинается с деятельности видов-фитофагов. Так, например, при массовом размножении зелёной дубовой листовёртки, обгрызающей листву деревьев, в почву поступает большое количество измельчённого и обогащённого ферментами и сапрофитной микрофлорой органического материала в форме экскрементов, которые быстро минерализуются (Зло-тин, 1969, 1970; Домников, 1979). В составе герпетобия в широколиственных степных лесах по сравнению с лесами лесной зоны возрастает доля участия галофитных, луговых, степных и эвритопных видов (Бригадирен-ко, 2005).
В разложении степного опада, как уже отмечалось, важное значение имеют абиотические факторы. Почвенные беспозвоночные-сапрофаги в два раза ускоряют разложение опада и корней по сравнению с активностью бактериально-грибного комплекса (Злотин, Ходашова, 1974). Дождевые черви (Eisenia nordenkioldi) также активно разлагают подстилку, ускоряя её деструкцию в 2,5 раза (Перель, 1979). Первичные деструкторы отмершей фитомассы – беспозвоночные, как и микроорганизмы, разлагают, питаясь, белки, растворимые углеводы, пектин и др. Среди них много диплопод, мокриц, личинок типулид, клещей, дождевых червей, колембол (Стригано-ва, 1971). Вторичными деструкторами-сапрофагами выступают личинки жуков-навозников (копрофаги) и диплопод, а также микроартроподы на экскрементах беспозвоночных (Стриганова, 1971).
Потребители подстилочной и почвенной микрофлоры – микроартро-поды, питающиеся в частности грибным мицелием (Стриганова, 1971). В кишечном тракте беспозвоночных-сапрофагов развиваются микроорганизмы, участвующие в переваривании пищи. С экскрементами они выбрасываются наружу и продолжают процесс деструкции (Стриганова, 1971; Чор-нобай, 2000). В разных слоях подстилки отмечаются различные виды сапрофагов, которые по мере разложения органического материала сменяют друг друга, осуществляя одновременно перемешивание детритной массы (Cromack, 1973; Gunnarson, 1987; Eijsackers, 1990).
Почвенная фауна не минерализует растительный опад, но без предварительной зоогенной переработки невозможно его последующее разложение микроорганизмами. Эта переработка включает: механическое измельчение растительного материала, гомогенное перемешивание непереваренных остатков пищи с микрофлорой в кишечнике, смешивание с почвой экскрементов (Eijsackers, 1990). В кишечнике сапрофагов растительная масса измельчается с возрастанием её суммарной поверхности, в ней увеличивается содержание растворимых веществ, происходит выщелачивание токсинов (фенолы и др.), тормозящих развитие микрофлоры, что активизирует развитие последней (Gunnarson, 1987). Во время биотурбации измельченной пищевой массы с микроорганизмами в кишечнике сапрофагов грибные ткани разлагаются, а устойчивые к пищеварительным секретам бактерии выживают и активно развиваются и в кишечнике, и в экскрементах (Gunnarson, 1987; Eijsackers, 1990).
В почве корневые отмершие остатки разлагают, главным образом, дождевые черви, кивсяки (Dunger, 1958; Злотин, 1969; Гиляров, Стригано-ва, 1978; Spenne, 1986; Тиунов и др., 1997; Tiunov, Scheu, 1999; Битюцкий и др., 2002; Сизова, Титишева, 2005; Олейник и др., 2005). В экспериментах показано, что при искусственном заселении почвы в насаждениях дуба черешчатого дождевыми червями в подзоне сухих степей существенно возрастает разложение подстилки, а в почве необменный калий переходит в обменную форму (Кулакова, 2006). С экскрементами дождевых червей в почву вносится 9 мкг/особь NO 3 - - иона и 90 мкг/особь иона аммония, что активизирует процесс нитрификации (Олейник и др., 2005).
По результатам экспериментов М.Г. Сизовой и Н.Г. Титишевой (2005) в разнотравно-луговой степи на мощном черноземе (гумусированность 13%) установлено, что кивсяки поедают (и участвуют в разложении) отмершие корни луговых и степных видов трав и ветошь, а дождевые черви – преимущественно подстилку. При биотурбации происходит перемещение веществ из подстилки в нижележащие горизонты почвы за счёт миграции мезофауны (дождевые черви, жуки-навозники и др.). Мелкие органические частицы могут также подниматься снизу вверх с поднятием грунтовых вод. Выбрасываемый сапрофагами на поверхность почвы материал из нижних горизонтов изменяет химический состав за счёт привноса новых элементов (Хитров, 2005). Большая численность и биомасса беспозвоночных сапрофагов в почве свидетельствует о процессе формирования тонкозернистого гумуса типа мулль или модер (Гиляров, Стриганова, 1978; Ржезникова и др., 1992). Дождевые черви при биотурбации выделяют много слизи, которая склеивает органо-минеральные структурные агрегаты на стыке подстилки и перегнойно-аккумулятивного горизонта (Spenee, 1986).
Позвоночные животные, особенно млекопитающие, также выполняют существенную роль в почвообразовательных процессах (Кучерук, 1963; Абатуров, Карпачевский, 1965; Ходашова, 1970; Абатуров, 1976, 1979,
1984; Воронов, 1975; Карпачевский, 1981; Гиляров, 1988; Ведрова, 1997; Стриганова, 1996; Bulakhov, 1997; Пахомов, 1998а, 1998б).
На основе многолетних стационарных исследований, проведённых в естественных байрачных, пристенных, краткопоёмных, боровых лесах степного Приднепровья, установлено, что обитающие в почве млекопитающие (кроты, слепыши, мышевидные) существенно изменяют тепловой, водный, воздушный режим почвы (Пахомов, 1997, 1998а), способствуют в местах пороев интенсификации роста травостоя (Булахов, Лукацкая, 2000), увеличивают видовое разнообразие растений (Пахомов, 2003), повышают запасы и скорость разложения лесной подстилки (Дубина, Рева, 1998). Экскреты млекопитающих, особенно фитофагов, стимулируют развитие почвенных бактерий и грибов, повышают активность почвенных ферментов (Булахов, Пахомов, 1997; Пахомов, 1998б; Булахов и др., 1998, 2005). Роющая деятельность мелких млекопитающих способствует увеличению образования гумуса на 6…18%, повышает микробиальную активность на 18…40%, ферментативную активность – на 6…20%, почвенное дыхание – на 30…190% (Булахов, Пахомов, 2000; Пахомов, Рева, 2005).
Слой почвы 3…5 см перемешивают обитающие в степных лесах земноводные, при этом в их пороях содержание гумуса возрастает на 40…50% (Губанова, 2003). Эврибионтная почвороющая амфибия чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus), обитающая в степной зоне во всех сообществах, образует в расчёте на 1 га во влажные годы от 0,6 до 5324 тыс. особей, в засушливые годы – от 265 до 2387 особей. Зарывается в почву на глубины 0,8…1,0 м, редко – до 2 м (Булахов, Губанова, 2005). При этом почва взрыхляется, уменьшается испарение влаги, но возрастает влагопроницае-мость. Порозность почвы повышается на 8,6…10,8%, аэрация – на 17,7…21,1% (Булахов, Губанова, 2005).
Исследования сотрудников кафедры зоологии и экологии Днепропетровского университета на Присамарском биосферном стационаре (степное Приднепровье) всесторонне раскрывают сущность воздействия почвообитающих и надпочвенных млекопитающих на почву и протекающие в ней процессы (Булахов, 1975; Пахомов, 1979, 1985, 1987, 1988, 1993, 1998а, 1998б, 1998в, 1998г; Пахомов и др., 1987, 1989; Пахомов, Леонова, 1993; Пахомов, Жуков, 1998; Булахов, Леонова, 1991; Булахов, Пахомов, 1997).
На основании анализа данных работ можно заключить следующее. Микромаммалии – почворои (кроты, слепыши, полёвки, мыши) покрывают почву пороями, вынося на поверхность в степных лесах до 1,5…24,4 м3/га почвы и увеличивая общую поверхность контакта с воздушной средой на 29…123 м2/га. В годы их массового размножения эти величины возрастают в 3…5 раз. Млекопитающие-почворои, обитающие в различных типах степных лесов, в процессе питания перерабатывают биомассу до 170…485 кг/га (сухой вес) и включают её в круговорот в форме физиологически активного вещества в почве до 43…120 кг/га. Почворои, взрыхляя почву, снижают её твёрдость, которая в выбросах снижается в 4…17, в горизонте 0…40 см – в 1,2..2,3 раза. Под воздействием экскреций животных твёр- дость почвы в пойменных дубравах снижается на 8,3…29,1, в аренных лесах – на 1,9…18,5%. Порозность и аэрация почвы в результате роющей деятельности животных возрастает на 13…39, под воздействием экскретов – на 6,0…14,3%. В слоях (20…40 см) активной деятельности почвороев (норы, ходы) возникают воздушные полости объёмом от 1,7 до 25,0 м3/га. Под выбросами почвороев в степных лесах влажность почвы увеличивается на 1,6…23,0%, под экскрециями – на 1,7…11,0%.
Поверхностное рыхление кабанами, кротами, лисицами, барсуками способствует накоплению влаги в почве на 6…25%. В местах троп и лёжек напочвенных животных (кабаны, лоси, косули) твёрдость почвы увеличивается на 5,9…14,2%, а влажность почвы – на 1,6…6,4%. Млекопитающие-почворои обуславливают вертикальную миграцию веществ, которые интенсивнее вовлекаются в биотический круговорот. Так, ежегодно дополнительно вовлекаются в круговорот: медь – 0,01…0,6; железо – 1,3…25,0; марганец – 0,2…2,6; магний – 0,5…12,4; цинк – 0,004…0,09 кг/га, прирост гумуса достигает 0,12…0,38%. В верхнем (0…10 см) слое почвы под экскрециями грызунов количество гумуса увеличивается на 9,8…31,6%. За счёт экскреций и мочи в почву степных лесов дополнительно поступает 3,93…10,55 кг/га органических (сухой вес) и 2,16…16,4 кг/га зольных соединений, в связи с чем ускоряется круговорот азота, фосфора, калия, кальция, натрия и других элементов. Процесс минерализации под воздействием экскреций возрастает в 1,2…1,8 раза, что способствует дополнительному вовлечению в круговорот в пойменных дубравах 147…183, в аренных левах – 192…282 кг/га зольных элементов и соответственно 210…263 и 874…1287 кг/га органических веществ.
В местах пороев напочвенных животных развитие микрофлоры количественно возрастает в 1,3…3,3 раза, а в биогеоценозе в целом на 0,25…7,73% за счет катализаторного действия экскрементов. Количество споровых бактерий увеличивается в среднем в 1,7, олигонитрофилов – в 2,1, олиготрофов – в 2,2, амилолитиков – в 2,90, актиномицетов – в 2,3, плесневых грибов – в 1,6 раза. Это приводит к интенсификации разложения азотсодержащих и углеродсодержащих соединений, к увеличению содержания в почве аммиака, протеолитических и амилолитических ферментов, усиливая минерализацию растительных остатков в 1,2…3,0 раза, активность уреазы повышается на 44,2…138,2, инвертазы – на 24,3…87,5, каталазы – на 31,0…88,3%, под экскрециями млекопитающих общая ферментативная активность почвы усиливается в 1,1…5,0 раз. Под влиянием роющей деятельности животных в почве степных лесов на 15,9…41,9% увеличивается содержание свободных аминокислот (разложение белков), а под экскрециями – на 17,8…99,2%, выделение СО 2 усиливается на 21,2…199,6%.
Средопреобразущая деятельность напочвенных млекопитающих стимулирует в почве степных лесов развитие простейших-тестацид (видовое разнообразие возрастает в 1,3…3,75 раза, количество – на 11,5…45,6%), микроартропод (численность увеличивается на 3,6…28,7%). Общий при- рост количественного состава и зоомассы почвенной мезофауны в степных лесах под влиянием почвороев-млекопитающих составляет соответственно 1,1…6,4 и 1,2…7,4%.
Таким образом, вышеизложенные результаты исследований почвенных зооэкологов, из которых и по научно-методическому уровню, и по информативности особо выделяется фундаментальный труд А.Е. Пахомова (1998а, 1998б), свидетельствуют о сложном и многостороннем воздействии позвоночных животных (млекопитающих) на почву и протекающие в ней процессы.
Почва, таким образом выступает не просто как важнейшая часть (эда-фотоп) биогенной среды (биотоп) биогеоценоза (Сукачёв, 1964), но и как в высшей степени сложная биокосная система, обладающая способностью к саморазвитию за счёт деятельности обитающих в ней живых организмов, которые образуют своеобразную надорганизменную подсистему – педо-биоценоз. В процессе питания живые организмы осуществляют в почве деструкцию органического вещества, первоосновой которого изначально всегда является фитомасса фотосинтезирующих растений (включая водоросли и цианобактерии), без каковой никогда не возникнет биомасса всех остальных живых существ. Живая или мёртвая фитомасса выступает первым звеном трофических цепей: пастбищной (растения → фитофаги и фитопаразиты → зоофаги и зоопаразиты) и детритной (мортфитомасса → сапрофаги и сапрофиты) (Одум, 1975; Брук, 1987; Гиляров, 1988; Номоконов, 1989; Динамика растительного …, 1991).
В нашу задачу не входит анализ трофических цепей, выраженных в почве, отметим лишь то, что они не прямолинейны и объединены множеством усложнённых вещественно-энергетических связей (Одум, 1975; Но-моконов, 1989; Шилов, 1997; Голубець, 2000). И в пастбищной, и в детритной трофических цепях, с одной стороны, отмечается упрощение химического строения и распад крупных молекул с рассеиванием энергии и образованием простых, в том числе – минеральных соединений, а, с другой стороны, происходит синтез новых, часто ещё более высокомолекулярных соединений с аккумуляцией энергии (Шилов, 1997; Голубець, 2000). Если возникновение высокомолекулярных, аккумулирующих большую энергию соединений в зоомассе (животные белки, жиры и углеводы) не вызывает особых вопросов, то синтез сложно устроенных, очень крупных, заключающих в себе огромную энергию гумусовых веществ (гуминовые и фуль-вокислоты, гумины и др.) до сих пор не ясен, тем более, что он протекает не в клетках живых организмов, а в «биохимической среде» почвы и связан, прежде всего с её ферментативной активностью (Купревич, 1974; Хазиев, 1976).
Как уже было отмечено, все обитающие в почве организмы (растения, простейшие, бактерии, грибы, водоросли, актиномицеты, беспозвоночные и позвоночные животные) синтезируют, выделяют и обогащают почву ферментами. Трансформация органических веществ, синтез новых молекул в биомассе и биосинтез гумуса осуществляется с участием ферментов (Хазиев, 1976, 2005).
Главный результат биогенной трансформации материнской породы в почву – образование и накопление в ней гумуса, который свойственен только почве. Первоосновой его являются растения. И если видовой состав растений, поселяющихся на материнской породе, зависит от комплекса абиотических факторов исходной среды (экотопа), осуществляющей эко-топический отбор (Шенников, 1950; Работнов, 1974), то состав беспозвоночных и позвоночных фитофагов, а затем и зоофагов, мортфитосапрофа-гов и сапрофитов определяется особенностями биохимической структуры растительных тканей (Одум, 1975; Шилов, 1997; Голубець, 2000).
Однако если, как это видно из предшествующего обзора, в научной литературе имеется достаточно обширная информация о роли микроорганизмов, беспозвоночных и позвоночных животных в процессах, протекающих в почве, включая подстилку, то о влиянии на свойства почвы отдельных видов растений, а также групп видов, объединяемых по жизненной форме (биоморфе) и экологической форме (экоморфе), из которых слагаются различные фитоценозы, известно крайне мало. С учётом того, что именно растения своими корневыми системами вовлекают в биотический круговорот химические элементы материнских пород, извлекая их из кристаллических решеток минералов и поднимая в верхние горизонты, а также то, что именно растительная масса является в той или иной почве первоосновой гумуса, важно исследовать как влияет флористический и био-экоморфный состав растительных сообществ на физико-химические свойства почв.
Делая общий вывод по представленному обзору литературного материала, можно заключить, что, несмотря на несомненный интерес к почве со стороны различных специалистов, практически нет ни одного исследования, в котором всесторонне и исчерпывающе была дана объективная оценка роли всех составляющих (абиотических, биотических, биогенных) в формировании почвы как биокосной системы на конкретной материнской породе, в конкретном биогеоценозе, с учётом значимости всех без исключения видовых ценопопуляций живых организмов. Здесь нас ещё ожидает большая поисковая работа.
Список литературы Современные представления о роли абиотических и биотических факторов в почвообразовательных процессах в степной зоне
- Абатуров, Б.Д. О влиянии крота на почвы в лесу/Б.Д. Абатуров, Л.О. Карпачевский//Почвоведение. -1965. -№6. -С. 59-68.
- Абатуров, Б.Д. Почвообразующая роль животных в биосфере/Б.Д. Абатуров//Биосфера и почвы. -М.: Наука, 1976. -С. 53-69.
- Абатуров, Б.Д. Роль млекопитающих в минерализации растительной органики/Б.Д. Абатуров//Матер. II съезда Всесоюзн. териол. общества: Пленар. докл. -М., 1979. -С. 3-13.
- Абатуров, Б.Д. Млекопитающие как компонент экосистемы (на примере растительноядных млекопитающих в полупустыне)/Б.Д. Абатуров. -М.: Наука, 1984. -286 с.
- Авдеева, Н.В. Сравнительная биоэкологическая характеристика липовых дубрав и искусственных сосняков в условиях степного Завожья: Автореф. дис. … канд. биол. наук./Н.В. Авдеева. -Самара, 2004. -19 с.