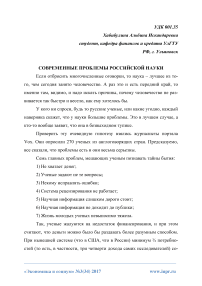Современные проблемы российской науки
Автор: Хабибулина А.И.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 3 (34), 2017 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140122687
IDR: 140122687
Текст статьи Современные проблемы российской науки
Если отбросить многочисленные оговорки, то наука - лучшее из того, чем сегодня занято человечество. А раз это и есть передний край, то именно там, видимо, и надо искать причины, почему человечество не развивается так быстро и весело, как ему хотелось бы.
У кого ни спроси, будь то русские ученые, или какие угодно, каждый наверняка скажет, что у науки большие проблемы. Это в лучшем случае, а кто-то вообще заявит, что она в безвыходном тупике.
Проверить эту очевидную гипотезу взялись журналисты портала Vox. Они опросили 270 ученых из англоговорящих стран. Предсказуемо, все сказали, что проблемы есть и они весьма серьезны.
Семь главных проблем, мешающих ученым познавать тайны бытия:
-
1) Не хватает денег;
-
2) Ученые задают не те вопросы;
-
3) Некому исправлять ошибки;
-
4) Система рецензирования не работает;
-
5) Научная информация слишком дорого стоит;
-
6) Научная информация не доходит до публики;
-
7) Жизнь молодых ученых невыносимо тяжела.
Так, ученые жалуются на недостаток финансирования, и при этом считают, что деньги можно было бы раздавать более разумным способом. При нынешней системе (что в США, что в России) минимум ¾ потребностей (то есть, в частности, три четверти дохода самих исследователей) со- ставляют деньги грантов и целевых программ. Чтобы получить грант, надо быть конкурентоспособным. Это значит, во-первых, надо публиковать много сногсшибательных результатов, причем в лучших журналах. Во-вторых, в заявке следует обещать за два-три года (именно такова нормальная продолжительность финансирования) разрешить важную научную проблему. Однако серьезное исследование продолжается десятилетиями.
Ряд российских ученых оценили проблемы, стоящие перед наукой.
Так, астрофизик Сергей Попов считает, что такими проблемами являются:
-
• Ориентация на российские кадры (кроме, возможно, самого верхнего уровня, где мегагрантами пытаются привлечь единичных топ-ученых из-за рубежа).
-
• Желание делать по максимуму «чисто российские» проекты, а не участвовать посильно в объединенных проектах в мире.
-
• Отсутствие развитой невоенной наукоемкой экономики, которая создавала бы спрос, как на разработки, так и на кадры.
-
• Массовое непонимание доли российской науки в мировой. В валовом исчислении она (в зависимости от области) составляет от силы несколько процентов. Если же мерить по топ-результатам, то еще на порядок меньше.
-
• Отсутствие мобильности внутри страны (чаще всего «где учился, там и пригодился»).
-
• Хорошее образование и научные результаты лишь в редких случаях работают как социальный лифт.
В развитом мире, пожалуй, основной проблемой является нежелание талантливой молодежи тратить много времени и сил на обучение. Разумеется, это можно переформулировать в терминах комбинации высокой конкуренции и недостаточных (по сравнению с другими областями деятельности) вознаграждений за проделанную работу.
Филолог Виктор Бейлис отмечает, что финансирование – вторая проблема. Первая – это пренебрежение культурой. Речь не только о российских обстоятельствах, это наблюдается повсеместно. Если что-то можно урезать, то без промедления урезается субсидирование культурных институтов и, конечно же, науки, в первую очередь гуманитарной.
В чем в России никогда не было недостатка, так это в замечательных ученых, несмотря на то, что во все времена свободная мысль притеснялась, а интеллектуалы изничтожались.
Может быть, нынешнее состояние хорошо лишь тем, что наука как поприще стала менее привлекательна для карьеристов, хотя, как показывает практика ворованных диссертаций, люди научились с помощью ученых званий делать необходимый для них карьерный скачок.
А биолог Александр Гольдфарб считает, что:
-
> В фундаментальной российской науке главная проблема - чрезмерная централизация. Иерархия построена по командному принципу, когда нижестоящий сотрудник полностью зависим от вышестоящего. Иерархия контролирует бюджет, кадры и т.д. На Западе действует децентрализованная система, в которой ученые, начиная с уровня младшего научного сотрудника, финансируются независимыми фондами посредством грантов и поэтому являются полными хозяевами и своей тематики, и кадров. Институтские и кафедральные власти зависят от своих ученых, которые приносят в институт деньги, а не наоборот.
-
> Прикладная наука в РФ работает в неблагоприятной юридической и инвестиционной атмосфере. В отсутствие независимой и беспристрастной судебной системы изобретатели и инвесторы не могут быть уверены, что их права на ту или иную разработку защищены от коррупции и произвола власть имущих.
Проблемы науки в России попытались решить, создавая такие инновационные структуры, как Роснано и ИЦ «Сколково». О малой эффективности Роснано не писали только самые ленивые, поэтому обратимся к опыту ИЦ «Сколково».
В 2016 году Счетная палата провела проверку ИЦ «Сколково». Смеяться и плакать от отчета хочется одновременно. И Фонд, и «дочки» финансируются государством почти на 100%. Во всяком случае, 93,8% от общего объема его расходов за 2013-2015 годы, по данным Счетной палаты, профинансированы из федерального бюджета. За это время «Сколково» израсходовало в общей сложности 65,5 млрд. народных рублей. На что пошли эти деньги? В первую очередь на высокую зарплату счастливчикам, которые трудятся в Фонде «Сколково» и его дочерних предприятиях.
«В структуре расходов Фонда в 2013-2015 годах расходы на оплату труда составили более 8,9 млрд. руб., что составляет 13,7% от общей суммы расходов, произведенных за счет субсидии из федерального бюджета», – сообщает Счетная палата.
На исследовательскую деятельность за это же время денег потрачено в два раза меньше. При том, что «Сколково» создавалось именно для того, чтоб поддерживать исследования и превращать их в коммерческие проекты, а вовсе не для того, чтоб щедро оплачивать обслуживающий исследователей персонал. Тем не менее, персонал оказался перед исследованиями в приоритете.
В 2015 году среднемесячная зарплата в Фонде составляла 468,4 тыс. руб., что в 13,8 раза превышало аналогичный показатель в целом по экономике Российской Федерации (33,98 тыс. руб.) и в 5,3 раза среднемесячную зарплату по Москве (88,62 тыс. руб. в декабре 2015 г.).
Аналогичная ситуация сложилась и в дочерних обществах Фонда. В Таможенно-финансовой компании ИЦ «Сколково» среднемесячная зарплата составляла 245,6 тыс. руб., в Технопарке – 240,3 тыс.»
Помимо россиян в «Сколково» трудятся иностранцы. Кроме зарплат им с царской щедростью выплачиваются дополнительные компенсации.
Гражданин Израиля генеральный директор ОДПС («Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий инновационного центра «Сколково») господин Лумельский получал, например, на оплату съемной квартиры 300 тыс. в месяц. Он и его семья за счет федерального бюджета четыре раза в месяц летали за границу. Всему семейству Лумельских оплачивалась медицинская и стоматологическая страховка по категории ВИП по договору с одной из ведущих страховых компаний – такие страховки стоят сотни тысяч рублей в год.
«Общая сумма компенсационных выплат иностранным работникам ОДПС в проверяемом периоде составила 21 млн. 382 тыс. 900 руб.», – подсчитала Счетная палата.
Исследования, ради которых создан и существует ИЦ «Сколково», должны вести участники проекта. Участником проекта является российское юридическое лицо, созданное исключительно в целях исследовательской деятельности и получившее статус участника проекта. Быть участником проекта полезно и выгодно, потому что участники могут бесплатно ввозить в Россию все, что нужно для исследований: аппараты, инструменты, программы, машины, комплектующие – что угодно. Таможенную пошлину и налог на добавленную стоимость за них платит государство.
«11 из 36 компаний – участников проекта, получивших по итогам года наибольший объем выручки от результатов исследовательской деятельности (более 100 млн. рублей), принадлежат иностранным юридическим лицам. Например, стопроцентными владельцами ООО «Параллелз Ри-серч», ООО «Рок Флоу Динамикс», ООО «Е инжиниринг», ООО «Воркл» являются иностранные юридические лица, зарегистрированные на Кипре, а ООО «Лингуалео» и ООО «Акуматика» – иностранные юридические лица, зарегистрированные на Британских Виргинских островах».
До того, как влиться в дружную семью участников проекта, выручка у них была не бог весть какая. Но благодаря льготам и преференциям, которые предоставляет «Сколково», зарегистрированные в оффшорах компании стали сразу «поднимать» хорошие деньги.
Горько признать, но чуда в «Сколково» не получилось. Надеждам на технологический прорыв и ликвидацию отставания от Запада, которые связывались с проектом, сбыться, по всей видимости, не суждено. Во всяком случае, проверка Счетной палаты не внушает на сей счет оптимизма.
Экономист Юрий Бобылев отмечает, что Россия заняла очень невысокое 43-е место в «Глобальном инновационном индексе» (Global Innovation Index), поднявшись по сравнению с 2015 годом на пять позиций. Самой инновационной страной в шестой раз подряд признана Швейцария. Второе место – Швеция, третье – Великобритания, далее следуют США, а замыкает пятерку лидеров Финляндия. Из стран бывшего СССР выше всех поднялась Эстония, занявшая 24-е место.
По ряду причин новой «холодной войны» в США и Евросоюзе растет недоверие к России, и ее потенциал часто сознательно занижается. Невысокие позиции России связаны с тем, что отечественных ученых редко цитируют в зарубежных научных изданиях, а бизнес в ней зависит от импорта технологий и слабо связан с российскими разработчиками. Около 90% предприятий в РФ не рассматривают инновационную деятельность как экономически важную бизнес-стратегию. Но в России наукоемкая модернизация промышленности имеет сильный военно-промышленный уклон, что ограничивает в этой сфере международное сотрудничество и открытую публикационную деятельность.
Василий Молодяков (российский историк и политолог) выделяет следующие проблемы, сдерживающие научный рост в России: