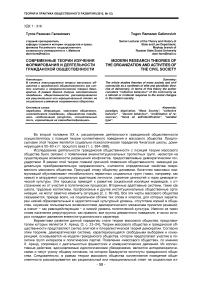Современные теории изучения формирования и деятельности гражданской общественности
Автор: Тугов Рамазан Галимович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 12, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются теории массового общества и гражданской общественности как синтез элитной и плюралистической теорий демократии. В рамках данной теории «коллективное поведение» общественности рассматривается как рациональный или нерациональный ответ на социальные изменения современного общества.
Парадигма, депривация, "массовое общество", "коллективное поведение", "девиантное поведение", "мобилизация ресурсов", "социетальный тип", "ориентация на самоидентификацию"
Короткий адрес: https://sciup.org/14934054
IDR: 14934054 | УДК: 1
Текст научной статьи Современные теории изучения формирования и деятельности гражданской общественности
Во второй половине ХХ в. рассмотрение деятельности гражданской общественности осуществлялось с позиций теории коллективного поведения и массового общества. Предпосылками этой теории является социально-психологическая парадигма Чикагской школы, доминирующая в 50-60-х гг. прошлого века [1, с. 384-388] .
Исследование деятельности гражданской общественности с позиций теории массового общества было связано с появлением внеинституциональных протестных групп, несмотря на существующие возможности разрешения конфликтов, предоставляемые демократическим государством. В рамках этой теории главной причиной появления общественности, имеющей радикальную преобразовательную направленность, считаются определенные свойства современного массового общества. Присущий этому обществу динамизм, богатство массовых коммуникаций обусловливают нестабильность первичных социальных групп (таких, например, как семья) и затрудняют социальную адаптацию личности, усвоение ценностей и норм демократической культуры. Эти процессы приводят к развитию социальной изоляции индивидов, к отстранению их от участия в политических процессах. Вторичные адаптивные системы, такие как школа, трудовые коллективы, профсоюзные и другие институциональные общественные организации, не могут заметно изменить ситуацию [2, с. 89-90] . Все эти черты массового общества сказываются, прежде всего, на социальном облике тех слоев и классов, для которых характерен низкий образовательный в недостаточный культурный уровень, отсутствие корней в обществе, неумение пользоваться возможностями демократического механизма принятия решений, а значит - как равнодействующая - и низкий уровень политической культуры. Именно из таких слоев населения рекрутируются, как правило, все группы девиантного поведения, в число которых попадают движения внеинституционального характера.
Вариантами развития данной парадигмы стали теории массового общества, представителем которых является Х. Аренд. [3, с. 23-24]. Теории массового общества и гражданской общественности представляют синтез элитной и плюралистической теорий демократии. Согласно этим теориям, демократическая система, характеризующаяся свободными выборами и конкуренцией, основывается на модели гражданского общества, которое предполагает участие в политике групп интересов и политических партий. Появление «массового общества», по мнению Х. Аренд, сопряжено с деятельностью фашистских и коммунистических движений. Их коллективные действия, вдохновляемые идеологическими убеждениями, являются антидемократическими и несут угрозу общему согласию, на котором базируются институты гражданского общества. Следовательно, в рамках теории массового общества коллективное поведение общественности рассматривается как рациональный или нерациональный ответ на социальные из менения. В рамках теории коллективного поведения деятельность общественности рассматривается как «коллективная в целях создания нового социального порядка» [4, с. 196].
В целом теории «коллективного поведения» исследуют гражданскую общественность, опираясь на предпосылку существования правового демократического общества. Для такого общества и соответствующей ему политической культуры характерен консенсус противоречивых интересов различных групп, когда существуют определенные механизмы решения социальных проблем в рамках существующей системы властных отношении. Движениям революционной направленности в этой стабильной структуре места нет, так как они, зарождаясь как протесты определенной группы населения, легализуются под эгидой одной из существующих партий, чье представительство в парламенте демократического государства обусловлено системой выборов.
Методологические положения теории коллективного поведения и массового общества продолжают развиваться последующей структурно-функциональной теорией коллективного поведения, основанием которого является депривация. «Депривация» означает лишение, отсутствие, а деприванты - «лишенцы» в объективном и субъективном смысле. Авторы этой группы концепций - Т. Герр, Н. Смелзер, П. Фресс и Ж. Пиаже - связывают возникновение протестных ориентаций общественности с субъективными и объективными депривациями личности. [5, с. 84-86]. Протестные ориентации рассматриваются как важнейшие предпосылки деятельности гражданской общественности. Это положение впоследствии было развито структурно-функциональной теорией коллективного поведения Н. Смелзера [6, с. 576-609] . Автор различал институциональные и неинституциональные виды коллективного действия. Если институциональные действия ориентируются на существующие социальные нормы, то неинституциональное коллективное поведение состоит в переходе от спонтанных действий толпы до формирования общественных и социальных движений вследствие необходимости разрешения неопределенных или неструктурированных ситуаций [7, с. 591-594].
Недостатки смелзеровской модели стали очевидны в 60-70-х гг. ХХ в., когда в Европе и США возникли крупные социальные движения «новых левых», движения за гражданские права женщин. Анализ деятельность этих представителей гражданской общественности требовал расширения концепции гражданского общества, в рамках которой учитывалась бы роль разнообразных добровольных ассоциаций в развитии общественной и частной сфер социальной жизни. В этих условиях парадигма коллективного поведения оказалась ограниченной, поскольку не могла объяснить временной принадлежности участников движения, их организационных форм, поведения и цели. Возникшая необходимость теоретического осмысления деятельности гражданской общественности реализовалась в социально-философском знании различным образом: в США возникла концепция «мобилизации ресурсов», а в Западной Европе – парадигма «ориентации на самоидентификацию».
К основным положениям парадигмы «ориентации на самоидентификацию» и концепции «мобилизации ресурсов» относятся: изначальная организация гражданской общественности и рациональность коллективных конфликтов. В результате понятие «коллективное действие» расширяется и подразумевает различные формы ассоциаций и стратегий в зависимости от макро- и мезоуровней. Если макроуровень характеризуется крупномасштабными выступлениями, к которым относятся демонстрации, съезды, забастовки, то мезоуровнь предполагает скрытые формы организации и связи среди групп, отражающие повседневную жизнь. Конфликтные коллективные действия являются нормой, поскольку конфликт институционализирован. Предметом конфликта чаще всего является деятельность социальных институтов – средств массовой информации, прессы, представительских политических институтов, а также правовая система, включающая личные, экономические, политические и культурные права. Поэтому гражданское общество интерпретируется представителями обоих подходов как плюралистическое, с посредническими и автономными ассоциациями, чьи конфликтные коллективные действия рациональны и институционализированы.
Представители концепции мобилизации ресурсов – Ч. Тилли, Дж. Маккарти, М. Зальд, М. Асим, К. Вильсон [8, с. 91] - отказались от использования психологических категорий, характерных для теории коллективного поведения. По их мнению, мобилизация коллективных действий гражданской общественности происходит в результате усложнения организационных форм и способов коммуникации. Поэтому ключевыми понятиями, характерными для этого подхода, становятся «организация» и «рациональность». В качестве центрального объекта анализа коллективных действий толпу заменяет рациональный индивид или группа, которые используют стратегическую логику для своих действий. В отличие от теории коллективного поведения, рациональные, организованные коллективные действия составляют гражданскую, а не массовую социальную основу.
Одним из ярких представителей концепции «мобилизации ресурсов» является Чарльз Тилли. Он сформулировал новый тезис, опровергающий кризисные теории: модернизация как процесс крупномасштабных структурных изменений воздействует на коллективные действия. Другими словами, индустриализация и урбанизация, развитие средств массовой информации не управляют темпом коллективных действий. Эти процессы способствуют зарождению новых типов мобилизаций и организаций, одновременно ослабляя другие. Следовательно, предметом его анализа является соответствие между совокупностью определенных коллективных действий и структурными изменениями, воздействующими на повседневную жизнь общества [9, с. 78].
Ч. Тилли показывает, как традиционные наборы действий, выработанные общественностью, взаимосвязаны с их формами ассоциаций, а также объясняет появление новых форм. По его мнению, социальное развитие предполагает смену общинной солидарности добровольными ассоциациями. «Реорганизация повседневной жизни, - пишет Ч. Тилли, - преобразовала характер конфликта. Наиболее важное воздействие структурного изменения на политические конфликты оказало, пожалуй, растянутое во времени изменение солидарностей, а не быстрое нарастание стрессов и напряжений» [10, р. 121].
Изменения солидарностей влечет изменение в коллективных действиях – собрания в общинных группах, на местных рынках, празднествах сменяются целенаправленными встречами формально организованных групп участников. Соответственно, изменяются и формы коллективных действий, когда продовольственные бунты, восстания, обращения к властям уступают место забастовкам, демонстрациям.
Разработанная Ч. Тилли концепция «мобилизации ресурсов» способствовала переосмыслению содержания понятия гражданского общества. Оно рассматривается как поле деятельности гражданской общественности, которая организуется и мобилизуется в зависимости от поставленных целей. Это происходит в результате смены общинной солидарности новыми формами автономных ассоциаций, ресурсов власти и способов конфликта, находящихся в пространстве современного гражданского общества. Как отмечают Джин Л. Коэн и Э. Арато, «современные коллективные действия предполагают развитие в рамках гражданского и политического общества автономных социальных и политических зон, которые гарантируются правами и поддерживаются демократической политической культурой, лежащей в основе «формальных представительских политических институтов» [11, с. 647-648].
Однако концепция «мобилизации ресурсов» имеет свои недостатки. Социальные конфликты в институтах гражданского общества рассматриваются Ч. Тилли как оборонительные или наступательные действия гражданской общественности на изменение властных отношений. Подобная интерпретация социальных конфликтов связана со спецификой анализа коллективных действий с позиций стратегического взаимодействия и соотнесения затрат-выгод. Все внимание исследователя сосредоточено на взаимодействии таких факторов, как ослабление давления власти, с одной стороны, и интересов, организации, мобилизации способностей, с другой. Поэтому гражданская общественность рассматривается в рамках концепции мобилизации ресурсов с позиций создания профессиональных организаций, мобилизующие массы на коллективные действия по политическим соображениям, причем, все внимание сторонников этой концепции концентрируется на стратегиях достижения политического представительства. Основоположником парадигмы «ориентации на самоидентификацию» является А. Турен. Традиционно проблема самоидентификации ограничивалась социально-психологическим описанием взаимодействия. Турен расширяет эту область описания взаимодействия до социологического анализа - предметом его изучения является не особая идентичность какой-либо группы, а «различные институциональные потенциалы общего культурного поля» [12, с. 87].
Автор подчеркивает, что формирование идентичности гражданской общественности связано с социальным конфликтом вокруг интерпретации норм публичной, частной и политической сфер деятельности, их новых смыслов. Поэтому деятельность современных социальных движений разворачивается не вокруг утверждения своей идентичности, а в вовлечении участия в них таких сторонников, которые способны формировать свою идентичность и изменять властные отношения, ее обуславливающие.
Подобный подход позволяет Турену рассматривать гражданскую общественность как «нормативно ориентируемое взаимодействие между противниками, придерживающимися несходных интерпретаций и противоположных социальных моделей одной и той же культурной области» [13, с. 89]. Современная гражданская общественность формируют свою групповую идентичность в рамках общей социальной идентичности, с интерпретацией которой она борется.
Изучение Туреном современной гражданской общественности осуществляется по двум направлениям: выявление структурных и культурных параметров современного общества и анализ процессов идентичности современных общественных организаций и их политических проектов, вызванных социальными конфликтами.
Гражданское общество, по Турену, представляет собой социальное пространство, в котором происходит создание норм, идентичностей, институтов посредством социальных отношений господства и сопротивления. В рамках гражданского общества разворачиваются коллективные действия, реализуемые гражданской общественностью. Для конкретизации целей гражданской общественности Турен вынужден обратиться к разработке модели «постиндустриального» или «программированного» общества. Современное общество – это новый социетальный тип, характеризующийся новыми центрами власти, формами господства, инвестиций и культурной ориентацией. Подобный подход требует разработки новых параметров коллективного действия.
Турен не развивает теорию типов действия, а ограничивается выделением защитных и наступательных действий. Защитная реакция на постоянные изменения связана, по мнению автора, с проблемами идентичности и автономии. Наступательное действие относится к борьбе за расширение поля политической деятельности и демократизации нового общественного пространства в противовес государственному контролю и технократическому обществу [14, с. 102-106].
Интерпретация Туреном гражданского общества и типов коллективного действия в настоящее время подвергается справедливой критики. Джин Л. Коэн и Э. Арато полагают, что предложенная Туреном концепция современного общества не позволяет увидеть преемственность между прошлой деятельностью гражданской общественности и настоящей. «Концепция «социеталь-ного типа», - отмечают авторы, - слишком абстрактна для институционального анализа гражданского общества. Становится невозможным объяснить процессы обучения со стороны коллективных акторов в отношении институциональных норм и социетальных проектов. Кроме того, довольно упрощенная концепция постиндустриального общества вынуждает исследователей рассматривать те аспекты борьбы, которые не подразумевают новую саморефлексирующую коллективную идентичность, как регрессивные или анахронические» [15, с. 664].
Предложенная автором типология коллективного действия применительно к гражданской общественности игнорирует важный момент ее борьбы за возможность демократических институтов влиять на политическую систему и экономику, находясь внутри них.
Таким образом, в соответствии с концепцией мобилизации ресурсов, деятельность гражданской общественности предполагает создание профессиональных организаций, мобилизующих массы на коллективные действия по политическим соображениям, причем, все внимание сторонников этой концепции концентрируется на стратегиях достижения политического представительства.
Представители концепции «ориентации на самоидентификацию» исследуют деятельность гражданской общественности с позиций нормативно ориентируемого взаимодействия между противниками, придерживающимися несходных интерпретаций и противоположных социальных моделей одной и той же культурной области. Следовательно, в рамках концепции «ориентации на самоидентификацию» изучается влияние гражданской общественности на институты гражданского общества, тогда как основанием исследования концепции «мобилизации ресурсов» выступает давление гражданской общественности на государственные и экономические структуры.
Ссылки:
-
1. Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. «Коллективное поведение», социальная экология и изучение субкультур // Социология: история и современность. Ростов-на-Дону, 1999. С. 384-388.
-
2. Здравомыслова Е.А. Социологические подходы к анализу общественных движений // Социологические исследования. 1990. № 12. С. 89-90.
-
3. Аренд Х. Истоки тоталитаризма. М., 1992 ; Ионин Л.Г. Аренд Х. // Современная западная социология. Словарь / под ред. Ю.Н. Давыдова. М., 1990. С. 23-24.
-
4. Липсет С. Политическая социология // Социология сегодня. М., 1965.
-
5. Фресс П. и Пиаже Ж. Экспериментальная психология. М., 1975. С. 84-86.
-
6. Смелзер Н. Коллективное поведение и социальные движения // Социология. М., 1994. С. 576-609.
-
7. Там же.
-
8. Здравомыслова Е.А. Социологические подходы к анализу общественных движений // Социологические исследования. 1990. № 12.
-
9. Тилли Ч. Путь к демократии // Время мира. Альманах. Вып. 1. Историческая макросоциология в ХХ веке / под ред. М.Н. Розова. Новосибирск, 1998.
-
10. Tilly Ch., Giugni М. How Social Movements Matter. - University of Minnesota Press, 1999.
-
11. Коэн Дж. Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. М., 2003. С. 647-648.
-
12. Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М., 1998.
-
13. Там же.
-
14. Там же.
-
15. Коэн Дж. Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. М., 2003.