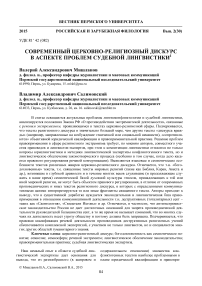Современный церковно-религиозный дискурс в аспекте проблем судебной лингвистики
Автор: Мишланов Валерий Александрович, Салимовский Владимир Александрович
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 2 (30), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье освещаются актуальные проблемы лингвоконфликтологии и судебной лингвистики, анализируются положения Закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности», связанные с речевым экстремизмом, проявляющимся в текстах церковно-религиозной сферы. Подчеркивается, что тексты религиозного дискурса в значительно большей мере, чем другие тексты «дискурса вражды» (например, направленные на возбуждение этнической или социальной ненависти), «сопротивляются» объективной юридической квалификации и правоприменительной практике. Решение проблем правоприменения в сфере религиозного экстремизма требует, по мнению авторов, совместного участия правоведов и лингвистов-экспертов, при этом к компетенции лингвистики относятся не только вопросы юрислингвистики и методики лингвистической экспертизы конфликтогенного текста, но и лингвистическое обеспечение законотворческого процесса (особенно в том случае, когда дело касается правового регулирования речевой коммуникации). Выявляются языковые и семиотические особенности текстов различных жанров церковно-религиозного дискурса. Отмечается, что т.н. «бого-дохновенные» тексты, т.е. священные тексты мировых религий (такие как Библия, Коран, Авеста и др.), возникшие в глубокой древности и в течение многих веков служившие (и продолжающие служить в наше время) семиотической базой духовной культуры этносов, принадлежащих к той или иной мировой религии, не могут быть объектом правового регулирования, в отличие от современных проповеднических и иных текстов религиозного дискурса, в которых с определенными коммуникативными целями интерпретируются те или иные фрагменты священного текста. Авторы приходят к выводу, что в существенной доработке нуждается законодательная и лингвистическая база правоприменения в отношении коммуникативной деятельности т.н. деструктивных (тоталитарных) сект -таких как «Саентология», «Свидетели Иеговы» и др. Отмечается, в частности, что антиэкстремистское законодательство России не дает достаточных оснований для запрета проповеднической деятельности руководителей большинства сект, в то же время не вызывает сомнений, что во многих случаях их деятельность несет угрозу обществу и поэтому должна быть запрещена. Подчеркивается, что правовая квалификация речевой деятельности проповедников деструктивных религиозных учений обеспечивается комплексной экспертизой, с участием не только лингвистов, но и специалистов многих других областей гуманитарного знания.
Церковно-религиозный дискурс, богодохновенность как семиотическое понятие, семиозис, семиосфера, речевой экстремизм, лингвистическое обеспечение законодательства, правоприменительная практика, судебная лингвистическая экспертиза
Короткий адрес: https://sciup.org/14729387
IDR: 14729387 | УДК: 81''
Текст научной статьи Современный церковно-религиозный дискурс в аспекте проблем судебной лингвистики
менительной практики являются тексты церковно-религиозной сферы2. В комментариях ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [Федеральный закон «О противодействии…» 2006] юристы и правозащитники подчеркивают, что причины этого коренятся в несовершенстве данного закона, причем не столько вербальной стороны («буквы») закона, сколько его идеологии. Усовершенствовать антиэкстремистское законодательство предлагается весьма радикальным способом – попросту отменив означенный закон. По мнению С.А. Бурьянова, «инструментом наиболее массовых и системных преследований служит Федеральный закон № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" и набирающая обороты бессмысленная, беспощадная и антиправовая по своей сути борьба с так называемым «религиозным экстремизмом… Очевидно, что применение «безразмерного» термина религиозный экстремизм несет угрозы правам человека и основам конституционного строя, а следовательно, создает угрозы безопасности личности, общества, государства. В целом неадекватная научно-теоретическая разработанность проблематики свободы совести и светскости государства в сочетании с некомпетентной политикой власти и корпоративными интересами доминирующих конфессий предопределили системный характер нарушений в данной области» [Бурьянов: эл. ресурс].
В обоснование критики закона об экстремизме исследователи (как правоведы, так и лингвисты) ссылаются на не самые удачные, по их оценкам, опыты правового применения закона (см., например: [Бурьянов 2009]). В частности, Макаровский районный суд Сахалинской обл. 08.10.2011, учитывая выводы экспертов, вынес решение о признании экстремистскими восьми изданий секты «Свидетели Иеговы». Однако здесь, судя по всему, нет признаков экстремизма: не только «Свидетели Иеговы», но и православные, католики, представители других конфессий противопоставляют земной, грешный (созданный людьми) мир небесному, безгрешному, божественному и исходят из представления об истинности только своей религии, ее преимуществе перед другими религиозными учениями. Как отмечается в комментарии, «единственная фраза в решении, которая обосновывает признание материалов экстремистскими, это следующее: имеются признаки побуждения к действиям, а именно «принимать волю Бога», «изучать Библию», «исполнять наставления Бога», «не вступать в связь со злыми духами», «не дать им обмануть себя», «отвергать зло в любом его проявлении», имеются высказывания, негативно оценивающие священников, имеются высказывания, негативно оценивающие форму общественного устройства (системы), созданного людьми, наличие высказываний о преимуществе одной религии перед другой» [Анисимов: эл. ресурс].
Очевидны правоприменительные ошибки, связанные с подменой юридического понятия «экстремистская деятельность», содержание и объем которого определены законом, обыденными представлениями об экстремизме как приверженности любым крайним взглядам в социальной сфере. В результате под понятие «экстремизм» подводится неопределенно широкий круг асоциальных явлений, например, содержание брошюры, «в которой высказывалась необходимость воздерживаться от переливания крови». Анализируя фрагмент публикации в журнале «Пробудитесь!» от 22 октября 2000 г. ( Служба в Советской армии была обязательной для юношей 18-летнего возраста. Основываясь на знании Библии, я решил во что бы то ни стало придерживаться нейтралитета в отношении дел мира, что означало отказ от службы в Советской армии ), эксперт приходит к выводу: «Событие отказа от военной службы описывается автором с положительной оценочностью – как праведный поступок… Следовательно, в тексте брошюры «Пробудитесь!» от 22 октября 2000 года содержится побуждение к отказу от исполнения гражданских обязанностей, связанных с военной службой» [Анисимов: эл. ресурс]. Подчеркнем в связи с этим, что даже побуждение к отказу от службы в армии по каким-либо мотивам не может интерпретироваться как призывы к экстремистским действиям (см. ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). К тому же эксперт обязан точно характеризовать семантику высказывания, не отождествляя положительную оценку с побуждением (призывом).
Необходимость совершенствования антиэкс-тремистского законодательства, как, впрочем, и других правовых актов, регламентирующих социальное речевое взаимодействие, не вызывает сомнений, но вряд ли правы те, кто призывает отменить закон об экстремизме, видя в нем лишь инструмент для подавления прав и свобод граждан (см. об этом: [Мишланов, Салимовский 2013], где мы попытались показать, что многие критические оценки положений ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» не имеют серьезных оснований). Более всего доработки требуют те положения закона, которые касаются проявлений религиозного экстремизма. Похожей точки зрения придерживаются и юристы; ср.: «На наш взгляд, законодательство, направленное на противодействие политическому экстремизму и тем формам, которые имеют политический характер, представляет собой достаточно развитую систему нормативных актов. Иное дело – собственно религиозный экстремизм, специфика и различные проявления которого не получили еще сколько-нибудь удовлетворительного отражения в законодательстве» [Макаров… 2005: 8].
С нашей точки зрения, совершенствование законодательной деятельности в указанной области предполагает углубленное изучение специфики социальных отношений и коммуникации в религиозной сфере, обязательный учет этой специфики при регулировании социального взаимодействия на базе существующих правовых норм.
Для решения означенных проблем необходимо исследовать в разных аспектах, но прежде всего под углом зрения лингвопрагматики и лингвоконфликтологии, особенности современного церковно-религиозного дискурса.
Представляется целесообразным типологизировать образующие его тексты по признаку «субъект речи». В этом случае будем различать:
-
1. Тексты, воплощающие Божественное Откровение (Библия, Коран, Танах, Типитака и др.).
-
2. Тексты, содержание которых определено Церковью как религиозным институтом. Сюда входят речевые произведения, а) представляющие каноническое учение (символы веры, священные предания, молитвословы и др.) и б) излагающие официальную позицию Церкви по тем или иным вопросам религиозной или общественной жизни.
-
3. Тексты, автором которых является священник – конкретный человек (личность), наделенный правом быть проводником богооткровенного и церковного учения. Это различные проповеди – экзегетические и догматические, в которых изъясняется религиозная доктрина, раскрывается содержание важнейших религиозных истин, апологетические, миссионерские, а также нравоучительные, предполагающие противопоставление разных смысловых позиций – истинной и ложной, нравственной (духовной) и безнравственной.
-
4. Тексты религиозной публицистики. Особенность речевых произведений этого класса
состоит в том, что их автор – служитель Церкви или мирянин – выражает не только и не столько религиозное мировоззрение, сколько определенную общественно-политическую позицию, отстаивает интересы определенной социальной группы.
В ином ракурсе (с точки зрения содержания и коммуникативной направленности) тексты церковно-религиозного дискурса можно разделить на следующие типы: 1) вероучительные тексты, т.е. «богодухновенные» Писания и богословские комментарии к ним; 2) богослужебные тексты (на русском и ц.-сл. яз.), молитвы канонические и иные; 3) проповеднические тексты (гомилетика, церковная публицистика, тексты, ставящие основной коммуникативной целью исправление нравов, духовное воспитание); 4) прозелитиче-ские тексты (имеющие целью обращение иноверцев, вовлечение в секту новых членов, а также воцерковление мирян); 5) экуменические тексты (позитивное межконфессиональное общение).
Тексты первого типа (в обеих классификациях), называемые священными (сакральными), богодухновенными, занимают особое положение в религиозном дискурсе и в пространстве духовной культуры в целом. Танах и Библия (Ветхий и Новый Заветы), Ригведа, Коран, Авеста и др., будучи древнейшими образцами литературы мирового значения и образующие своего рода фундамент духовной культуры современных цивилизаций (географические границы которых во многом совпадают с ареалами мировых религий), сыграли выдающуюся роль и в истории национальных литературных языков.
Религия, сменяющая языческие формы верований, отличается от последних особым свойством, которое можно определить как ортодоксальность и «доктринальность». Религия есть вероучение, требующее (как таковое) особых коммуникативных условий: письменной фиксации и кодификации вероучительных текстов. Так возникают особого рода тексты (Писания), бытие которых существенно отличается от функционирования иных текстов, не имеющих прямого отношения к какому-либо вероучению и богослужению. Такие тексты характеризуются качеством, именуемым в богословии богодохновен-ность (иначе – боговдохновенность, богодухно-венность) и осмысливаемым как результат «особого воздействия Св. Духа на провозвестников Божественного Откровения» и как «свойство писаний, в силу которого они являются как бы словом самого Бога, а не личным созданием их авторов» [Полный православный богословский словарь 1992: 350]. «При этом, однако, – продолжают авторы словаря, – дух человеческий, становясь таким образом орудием сообщения Божественного Откровения, сохраняет и деятельно проявляет все свои силы и способности» [там же].
Думается, что понятие богодохновенности допускает не только богословскую, но и филологическую, точнее, семиотическую трактовку, ибо в конечном счете богодохновенность текстов есть следствие особого отношения к ним человека. С точки зрения прагматики (как особого семиотического измерения), богодохновенность текста интерпретируется как такое его свойство, которое предполагает наличие тайных смыслов. Именно из этой презумпции исходит читатель (верующий, воспринимающий текст некритически, не апеллирующий к разуму).
В силу особого отношения к Писанию, в силу его особого статуса в духовной жизни людей священный текст постоянно воспроизводится, причем не только в процессе богослужения, но и в художественном творчестве, в интеллектуальном процессе, даже в повседневном общении. Семиотические особенности «богодохновенных» текстов заключаются также в том, что их генезис – это чрезвычайно длительный и сложный процесс (а до письменной фиксации многие из этих текстов существовали в устной традиции). Их движение во времени и пространстве, многократное воспроизведение (переписывание, цитирование) – всякий раз в новых условиях, в новом контексте – неизбежно сопровождалось изменениями не только в смысловом плане, но и в их поверхностной структуре. Особенно значительны изменения текста в его устном бытии, но и письменные тексты претерпевали определенные трансформации – в результате невольных ошибок при переписывании либо сознательного редактирования.
Этими семантическими сдвигами могут быть объяснены некоторые «неясности» сакрального текста с тысячелетним генезисом. Но, думается, не только ими. Неясность сакрального (шире – поэтического) текста – одно из его сущностных свойств, а вовсе не свидетельство его ущербности. Подлинная поэзия не предполагает простоты и ясности, но, напротив, заключает в себе тайну, нечто такое, что не постигается рационально. Умберто Эко в «Заметках на полях романа Имя розы» пишет: «Поэтическое качество я определяю как способность текста порождать различ- ные прочтения, не исчерпываясь до дна» [Эко 1989: 432].
Не случайно еще в древности родилось искусство герменевтики, или толкования, интерпретации текстов, и сложились различные методы экзегетики религиозных текстов – извлечения, выведения (так переводится с греч. слово ἐ ξ ή γησις) скрытых, подразумеваемых смыслов. В иудейской и христианской традиции использовалась четырехступенчатая экзегетика Библии, предполагающая интерпретацию текстов на четырех уровнях смысла: «буквальный смысл, тропологическое, или моральное (нравственное) толкование, аллегорическое или типологическое толкование, анагогическое толкование , связанное с реальностями духовного мира» [Десницкий 2011: 99] (в иных терминах: буквальный, метафорический (аллегорический), тропологический, или нравственный (как результат этической трактовки аллегорий), и анагогический, или высший символический смысл).
Как отмечает Н.Б. Мечковская, «с точки зрения семиотики… язык и религия – это две самобытные знаковые системы, обладающие своим содержанием и своим способом передачи этого содержания. План содержания языка [концепто-сфера] и план содержания религии [вероучение] – это два разных образа мира (две картины, две модели мира), поэтому в терминах семиотики язык и религия – это две моделирующие семиотические системы» [Мечковская 1998: 3]. Добавим, что религия как некая концептосфера, как комплекс вероучительных текстов (и их экзегез – толкований, идущих из «старины глубокой») с бесконечным содержанием является все же вторичной моделирующей системой, о чем, впрочем, в цитируемой работе чуть ниже пишет сама Н.Б. Мечковская: «Можно сказать, что язык – это универсальное средство, техника общения; религия – это универсальные смыслы, транслируемые в общении, заветные смыслы, самые важные для человека и общества» [там же: 4].
Итак, священные писания приобретают в пространстве духовной культуры особый семиотический статус: они воспринимаются как знаки, исполненные высшей духовности, мудрости и нравственного совершенства, поэтому имеющиеся в священных текстах языковые формы и смыслы становятся образцовыми и используются во всех книжных стилях национального языка. Библия в христианском мире, Коран и Сунна у мусульман явно или незримо присутствуют в семиосфере и в той или иной мере участвуют в семиозисе 3.
По-видимому, в противоречие с законом в той или иной мере могут вступать лишь тексты, не являющиеся священными (богооткровенными, содержащими символ веры, канонические молитвы и др.), т.е. в основном речевые произведения 3-й и 4-й групп (в частности, проповеднические и прозелитические). Потенциально конфликтными являются прежде всего тексты тех жанров, которые предусматривают противопоставление одних религиозных и идеологических взглядов другим – выступления иерархов Церкви по межконфессиональным и общественнополитическим вопросам, апологетические и миссионерские проповеди, религиознопублицистические произведения.
Священные писания мировых религий и богослужебные тексты с многовековой традицией, каким бы ни было содержание тех или иных их частей, не могут (не должны) оцениваться с позиций современного права. В аспекте прагматики, т.е. с точки зрения пользователя (в данном случае верующего), в Писании святы (и истинны) и буква, и дух, с позиций же иноверца или атеиста, содержание такого текста не обладает непогрешимостью и вполне допускает негативные оценки. Между пользователем и богодохно-венным текстом стоит богослов и филолог, толкователь, чья область деятельности – герменевтика и экзегетика.
Но богословские толкования богодохновенно-го текста сами не могут претендовать на этот статус, и к ним необходимо подходить с вполне «земными» мерками, в частности, оценивая их с точки зрения права. И если новое (современное) толкование какого-либо древнего священного текста не согласуется со столь же древней богословской традицией, оно не обладает (не должно обладать) «презумпцией непогрешимости» и текст такого толкования может стать предметом судебно-лингвистического исследования.
В то же время с известной осторожностью следует относиться к богословским экзегезам священных текстов или иным вероучительным текстам в том случае, если они были созданы в достаточно давнее время, а тем более в древнейший период истории какого-либо вероучения. Так, безусловной святостью и истинностью наделен у мусульманских богословов и верующих не только Коран, но и многочисленные хадисы, или предания о делах и речениях пророка Мухаммеда, которые начали складываться уже в VII в. (видимо, еще при жизни Мухаммеда). На Сунне (собрании хадисов) и Коране зиждется шариат, определяющий нормы жизни в исламских странах, и любая критика в СМИ положений не только Корана, но и Сунны или основанных на них шариатских постановлений (фетв) порождает острые социальные конфликты и, по-видимому, неприемлема.
Однако современные издания хадисов, сопровождаемые комментариями, не должны быть под защитой «презумпции непогрешимости», ибо комментарии эти не всегда остаются в рамках традиционного ислама и веротерпимости. Так, в исследовании, выполненном в одном из университетов Канады, проводится сопоставление зафиксированных в текстах Танаха и Нового Завета норм, определяющих отношение к женщине, с соответствующими нормами, действующими в мусульманском мире (с установлениями шариата), при этом описание иудаистских и христианских норм дано с выраженной отрицательно-оценочной модальностью [Шериф Абдель Азим]. Такого противопоставления не содержится в самих священных текстах, оно является выражением религиозной нетерпимости авторов исследования.
Показательно также издание на русском языке древней книги кришнаитов «Бхагавад-гита», снабженное комментариями Б.С. Прабхупады («Бхагавад-гита как она есть») [Репортаж…: эл. ресурс]. Экспертиза текста была проведена учеными Томского и Кемеровского университетов, давшими положительные ответы на вопросы о наличии в книге кришнаитов признаков экстремизма («признаков разжигания религиозной ненависти, унижения достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии»). Следует, впрочем, отметить, что выводы экспертов о наличии признаков религиозного экстремизма относятся не столько к тексту литературного памятника, сколько к комментариям Прабхупады, в которых, как отмечают эксперты, и содержатся оскорбительные номинации последователей иных вероучений ( глупец, невежда, недалекий, демон, свинья и т.п.) [Перевод священного писания кришнаитов проверят на экстремизм: эл. ресурс].
Подчеркнем, что в сфере религиозной коммуникации внимание правоведов привлекают прежде всего высказывания (с выраженной коммуникативной установкой пропаганды, убеждения) «о преимуществе одной религии перед другой». Однако из всех признаков экстремистской деятельности, приведенных в ст. 1 ФЗ № 114, как раз этот признак (наличие высказываний, направленных на «пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии…, [по] религиозной… принадлежности») вызывает, на наш взгляд, наибольшие сложности для правоприменения. Дело в том, что пропаганда какого-либо вероучения как единственно верного (стало быть, противопоставляемого другим религиям как ошибочным) является существенным компонентом деятельности священнослужителя. При этом государство, принимающее демократические принципы, не должно препятствовать распространению религиозных взглядов.
В вопросах веры обращение к разуму малопродуктивно. Представления об истинности или ложности догматов определяются религиозным чувством; верующий в поисках истины ищет ориентиры в духовных традициях своего народа, подчиняясь иррациональному «голосу крови», «зову предков». Призывы отказаться от прежних («ложных») верований, религий и влиться в лоно «истинной» религии – чем принципиально отличаются они от призывов отказаться от религиозных взглядов вообще или присоединиться к идеологической программе какой-либо общественной организации? Отрицательно-оценочные высказывания в адрес конфессий и сект, конечно, не благоприятствуют установлению согласия. Но отменить религиозные противоречия не в силах никакое законодательство. В этой сфере оно лишь призвано, обеспечивая право каждого на свободу исповедания веры или на атеизм, не допустить, чтобы различия в религиозных взглядах превращались в «культивируемую» рознь, обусловливали религиозную враждебность, служили «обоснованием и оправданием» насилия по отношению к «неверным».
С нашей точки зрения, под запретом законодательства должно быть лишь в озбужд ени е вражды к представителям других конф ессий (как и других этносов, социальных групп), прежде всего п р и з ы в ы к н а -силию по отношению к инов е р ц а м , а также о скор бл ени е чув ств верующих, святотатство, демонстрация неуважения к святыням. Заметим при этом, что тексты, содержащие прямые призывы к насилию, к физическому уничтожению представителей иных социальных групп, во многих случаях не требуют специального лингвистического исследования для их обоснованной правовой квалификации. Необходимость в лингвистической экспертизе такого текста возникает обычно тогда, когда коммуни- кативные цели выражаются косвенным путем, в той или иной степени завуалированно.
Еще раз подчеркнем, что пропаганда истинности какого-либо религиозного учения, противопоставляемого другим учениям как неистинным, греховным, составляет основное содержание миссионерской деятельности и важный аспект духовного просвещения представителей любой конфессии. Такая пропаганда не противоречит правовым нормам, если она не культивирует практики враждебности.
С учетом сказанного нужно оценивать и деятельность так называемых тоталитарных (деструктивных) сект. В новейшей судебной практике имеются прецеденты обвинительных решений в отношении изданий саентологов – последователей основанного Л.Р. Хаббардом радикального религиозного учения [Хаббард 2007] (см. также: [Свобода совести в России… 2009], где опубликованы статьи, посвященные истории саентологии, ее идеологическим принципам, а также заключение экспертов ГЛЭДИС, анализировавших тексты саентологов под углом зрения анти-экстремистского законодательства). Так, в 2011 г. в городском суде Набережных Челнов некоторые публикации саентологов были квалифицированы как экстремистские [В Татарстане запрещены очередные материалы саентологов: эл. ресурс].
Заслуживает специального рассмотрения вопрос о том, что в этих публикациях нужно считать проявлением миссионерской деятельности как таковой и какие именно речевые действия могут быть квалифицированы как направленные «на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам… происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе».
По мнению Е.Н. Волкова, «основатель саентологии настойчиво и последовательно пропагандирует разделение всего человечества на два рода существ различного происхождения – на «вечных и духовных» тэтанов и на ничтожных, глупых и омерзительных «материальных» хомо сапиенсов. Независимо от вопроса о реальности существования «тэтанов» изображение людей (хомо сапиенс) в текстах Р. Хаббарда носит однозначно расистский характер, а прилагательное «гуманоидный» употребляется им как унизительно-негативное» [Волков 2010: 104]. «Приверженность саентологической религии объявляется Р. Хаббардом единственной достойной мудростью, остальные религии характеризуются как «низкопробные» и «низкотонные» («религии в тоне 1.1»). Целый ряд социальных групп (и их представители) являются в текстах Р. Хаббарда объектами возбуждения вражды и ненависти, а также объектами унизительных характеристик: во-первых, человечество в полном составе (как биологический вид хомо сапиенс); во-вторых, все несогласные с Р. Хаббардом и его идеями (ПЛ – «подавляющие личности»); в-третьих, психиатры и психологи; в-четвёртых, судьи; в-пятых, представители правоохранительных органов; в-шестых, учёные; в-седьмых, преподаватели систем среднего и высшего образования. Последние две группы оказываются объектами возбуждения вражды в основном в косвенной форме – через крайне негативные характеристики научных материалистических концепций и системы образования, но немало обнаруживается и унизительных высказываний, обращённых Р. Хаббардом на представителей этих групп» [Волков 2010: 104].
Заметим, однако, что саентологи в их критической оценке иных религий (мировоззрений) ничем не отличаются от представителей какой-либо другой конфессии. Внимания экспертов заслуживают лишь речевые действия, обнаруживающие враждебность к людям по религиозному признаку. Так, в характеристике какой-либо религии как «низкопробной» косвенно выражается пренебрежение к ее последователям. Вместе с тем нужно констатировать, что негативнооценочные высказывания саентологов относятся скорее не к социальным группам, т.е. объединениям людей, а к общественным институтам (науке, образованию, психиатрии, юриспруденции и т.д.). В критике же «рода человеческого» Р. Хаббард и его последователи не являются пионерами. Вряд ли стоит осуждать поэта за фразу «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». Гностики, как известно, делили всех людей на «плотских», «душевных» и «духовных» («пневматиков»), из них лишь последние могут познать (иррационально) божественную истину. «В своем бездейственном неискупленном положении пневма [дух]… поглощена душой и плотью; она не сознает себя, пребывает в оцепенении, спит или отравлена ядом мира; короче говоря, она пребывает в "неведении". Ее пробуждение и освобождение достигается с помощью "знания"» [Йонас 1998: эл. ресурс].
«Сразу подчеркнём, – пишет Волков, – что речь идёт не о каком-то варианте социальной критики, а именно о тотальной негативизации указанных групп, которым противопоставляется исключительно принадлежность к группе приверженцев церкви саентологии. Дополнительным отягчающим обстоятельством является то, что все проявления и продукты «гуманоидности» (социальные институты) изображаются и характеризуются Р. Хаббардом исключительно в негативном свете» (http://lurkmore.ru/Project_Chanology/В_России).
Эти суждения эксперта весьма показательны: нигилизм саентологов направлен против социальных институтов. Стоит добавить, что, по-видимому, логически несостоятельны попытки обнаружить экстремистское деяние в случае, когда некая отрицательная оценка распространяется на всех, кто не входит в определенную социальную группу, ибо все остальные (несаен-тологи), как и человечество в целом, не образуют социальной группы.
К отрицательному ответу на вопросы о наличии в публикациях Л. Рона Хаббарда высказываний экстремистского характера пришли после изучения 18 изданий лидера саентологии такие авторитетные в области судебной лингвистической экспертизы ученые, как Ю. А. Бельчиков, А. С. Мамонтов, М. В. Горбаневский [Акт № 9412/08 Научно-консультационного комиссионного обследования книжных изданий специалистами-лингвистами…: 113–115]. К такому же выводу пришел и эксперт С. Б. Шинёв, доцент кафедры философии Московского государственного университета приборостроения и информатики: «Результаты проведённого анализа, изложенные выше, дают возможность сделать достаточно достоверный вывод по первому вопросу; предоставленные эксперту материалы не содержат информации, унижающей достоинство или пропагандирующей неполноценность представителей какой-либо социальной группы, нации, религии, расы. Доктрина Церкви Саентологии носит в целом гуманистический, толерантный по отношению к духовным ценностям, традициям и интересам других социальных групп и религий характер» [Шинев 2009: 127].
Сказанное не означает, что тексты церковнорелигиозного дискурса, лишенные бесспорных примет экстремистской деятельности, не заслуживают изучения под углом зрения проблем лингвоконфликтологии и судебной лингвистики. В этом аспекте особого внимания как раз и заслуживают проповеднические тексты саентологов, иеговистов, неопятидесятников и других тоталитарных (деструктивных) религиозных учений (чаще называемых сектами, что, видимо, вызвано стремлением противопоставить их традиционным конфессиям). Обозначение секта наделяется определенной долей отрицательной оценочности, являясь, по сути, синонимом сочетания деструктивная (тоталитарная) религиозная организация. К тоталитарным сектам относят «особые авторитарные организации, лидеры которых, стремясь к власти над своими последователями и к их эксплуатации, скрывают свои намерения под религиозными, политикорелигиозными, психотерапевтическими, оздоровительными, образовательными, научнопознавательными, культурологическими и иными масками… Тоталитарные секты прибегают к обману, умолчаниям и навязчивой пропаганде для привлечения новых членов…, к психологическому давлению, запугиванию и прочим формам удержания членов в организации» [Дворкин: эл. ресурс]. Добиться полного подчинения организации (ее лидеру, учителю, гуру) недостижимо без манипуляций, подавления воли, мощного психологического пресса, использования опасных для психики приемов воздействия, а потому тоталитарн ы е секты оказываются в то же время д еструктивными , не лечащими, а разрушающими души.
Вместе с тем противодействие деятельности таких религиозных организаций не должно давать проповедникам новых учений повода утверждать, что против них ведется незаконная идеологическая борьба. Не могут быть запрещены догматы тех или иных вероучений. Запрету подлежат лишь культы, рядящиеся в одежды вероучений, но проповедующие зло и ненависть, а также манипулятивные способы вовлечения в религиозные организации и опасные для психического здоровья людей методы воздействия на сознание, на чувства и волю членов секты.
Так, в одной из газет Пермского края была опубликована статья «Кому служат новые религии?», в которой резко критически описывалась деятельность неопятидесятников. Руководители секты пытались обвинить автора статьи в разжигании враждебности к ее членам и дискриминации по религиозному признаку. Анализ статьи показал, однако, что в ней нет речевых признаков экстремистской деятельности, в частности, высказываний, которые можно было бы расценить как направленные на возбуждение религиозной розни (т.е. настраивающие читателей против представителей какого-либо из основных вероучений, исповедуемых в России, либо их модификаций – сект), как нет и высказываний, пропагандирующих исключительность или не- полноценность человека по его религиозной принадлежности. Резко негативные суждения, содержащиеся в статье, направлены не против религиозного учения как такового (в данном случае – догматов неопятидесятников), а против деятельности руководителей секты, против методов вовлечения в секту новых адептов, против приемов психологического воздействия на рядовых членов секты, которые, с точки зрения автора статьи, противоречат моральным принципам и несут опасность для общества.
Но эти девиантные практики не подпадают под действие антиэкстремистского законодательства. Если, однако, общество заинтересовано в запрете деструктивных сект, необходимо прежде всего решить юридические задачи (усовершенствовать наше законодательство, разработать и принять соответствующие правовые нормы), а кроме того, решить методологические проблемы, связанные с диагностикой – в свете принятых норм – конфликтогенных текстов церковнорелигиозного дискурса. Вряд ли можно сомневаться в том, что только лингвистической экспертизы изданий деструктивных религиозных учений недостаточно: для их юридически обоснованной, справедливой квалификации потребуется проведение комплексной междисциплинарной экспертизы [Синицына 2013: 195]. Экспертные оценки только тогда будут иметь значение «доказательной базы», когда к исследованию потенциально конфликтного текста церковнорелигиозного дискурса будут привлечены специалисты многих других областей гуманитарного знания – литературоведения, истории, философии, религиоведения, этнографии, искусствоведения.
При этом семиозис (процесс) не следует, как это иногда случается, отождествлять с семиотическим пространством, с семиосферой (ср.: «В самом широком понимании, семиозис есть пространство знаков, в котором каждый знак интерпретируется через другие знаки» [Бразговская 2008: 84]). Оба эти понятия дополняют, точнее, предполагают друг друга. Использование языка как первичной семиотической системы, по Лотману, невозможно без погружения в семиосферу (в иные ее зоны). «Одновременно во всем пространстве семиозиса – от социальных, возрастных и прочих жаргонов до моды – также происходит постоянное обновление кодов. Таким образом, любой отдельный язык оказывается погруженным в некоторое семиотическое пространство, и только в силу взаимодействия с этим пространством он способен функционировать» [Лотман 2000: 251].
MODERN CLERICAL AND RELIGIOUS DISCOURSE
Professor in the Department of Journalism and Mass Communication
Professor in the Department of Journalism and Mass Communication
Perm State University
Список литературы Современный церковно-религиозный дискурс в аспекте проблем судебной лингвистики
- Анисимов А.П. Анализ применения закона «О противодействии экстремистской деятельности» в отношении религиозных организаций, признание материалов экстремистскими. URL: http://www.svobodasovesti.org/index.php? op-tion=com_content&view=article&id= 1326:-l-r-&catid=114:-l-&Itemid=797 (дата обращения: 10.12.2013)
- Бразговская Е.Е. Языки и коды. Введение в семиотику культуры: учеб. пособие. Пермь, 2008
- Бурьянов С.А. Реализация конституционной свободы совести и свободы вероисповедания в Российской Федерации. М.: ЗАО «ТФ "МИР"», 2009. 288 с.
- Бурьянов А.С. О необходимости отмены ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и иного «антиэкстремистского» законодательства. URL: http://golosislama.ru/news. php?id =8257 (дата обращения: 19.10.2013)
- Волков Е.Н. Комплексная психолого-лингвистическая экспертиза манипулятивного воздействия: социально-психологические и когнитивные аспекты//Актуальное состояние и перспективы развития судебной психологии в Российской Федерации: материалы Всеросс. науч.-практ. конф. с международным участием. Калуга, 26-29 мая 2010 г. Калуга, КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2010. С. 101-106
- В Татарстане запрещены очередные материалы саентологов. URL: http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2011/09/d22513/(дата обращения: 19.10.2013)
- Гильдия лингвистов-экспертов по документа-ционным и информационным спорам. АКТ научно-консультационного комиссионного обследования книжных изданий специалистами-лингвистами № 94 12/08//Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Вып. 7: сб. ст. СПб.: Росс. объединение исслед. религии, 2009. С. 101-115
- Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. Изд. 3-е, перераб. и доп. Изд-во братства во имя св. князя Александра Невского. Нижний Новгород, 2002. URL: http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=author&id=43 (дата обращения: 10.12.2013)
- Десницкий А.С. Введение в экзегетику. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011
- Йонас Ганс. Гностицизм (гностическая религия). СПб.: Лань, 1998. URL: http://psylib.ukrweb.net/books/jonas01/txt02. htm#d
- Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство -СПБ, 2000. 704 с
- Макаров А.В., Макаров Н.Е. Правовая основа профилактики политического и религиозного экстремизма в России//Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 11. С. 8-14
- Мечковская Н.Б. Язык и религия. М.: Агентство «ФАИР», 1998. 352 с
- Мишланов В.А., Салимовский В.А. Этнический экстремизм в массовой коммуникации с точки зрения проблем судебной лингвистической экспертизы//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. Вып. 4 (24). С. 63-75.
- Моррис Ч.У. Из области основной семиотики//Семиотика: антология/сост. Ю.С. Степанов. М.: Акад. проект, 2001. С. 45-98
- Мухаммад Закария Кандехлеви (хафиз Му-хаммад Закария). Достоинства Корана. Изложение и комментарии 40 хадисов (без вых. дан.)
- Перевод священного писания кришнаитов проверят на экстремизм//РИА Новости. 31.08.2011. URL: http://www.ria.ru/inquest/201108 31/427685043.html (дата обращения: 10.12.2013)
- Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. 1. Репринт. изд. М., 1992. 1120 с
- Репортаж: Как в Томске «Бхагавад-гиту» судят: Ленинский суд пытается выискать «экстремизм» в древнейшем писании индуизма URL:http://www.portal-credo.ru/site/?act=news& id=87265 (дата обращения: 10.12.2013)
- Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Вып. 7: сб. ст. СПб.: Росс. объединение исслед. религии, 2009. 396 с
- Синицына М.А. Исследование механизмов аргументирования в современных СМИ для оптимизации методологии проведения лингвистической экспертизы: дисс.. канд. филол. наук. М., 2013. 239 с
- Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии экстремистской деятельности» (в ред. от 27 июля 2006 г. № 148-ФЗ)//Росс. газ., федер. вып. № 4131. 2006. 29 июля
- Хаббард Л.Р. Саентология: Новый взгляд на жизнь. Дания, Копенгаген: NewEra, 2007. 372 с
- Шериф Абдель Азим (доктор философии королевского ун-та Кингстон. Онтарио. Канада). Женщина в исламе и в иудео-христианском мире (мифы и реальность) (без вых. дан.)
- Шинёв С.Б. Заключение эксперта//Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Вып. 7: сб. ст. СПб.: Росс. объединение исслед. религии, 2009. С. 116-135
- Эко У. Имя розы. М.: Кн. палата, 1989. 496 с