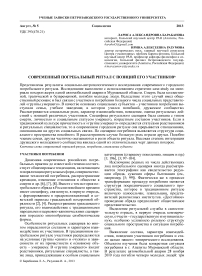Современный погребальный ритуал с позиций его участников
Автор: Барабанова Лариса Александровна, Разумова Ирина Алексеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 5 (134), 2013 года.
Бесплатный доступ
Представлены результаты социально-антропологического исследования современного городского погребального ритуала. Исследование выполнено c использованием стратегии case-study на материале похорон жертв одной автомобильной аварии в Мурманской области. Смерть была коллективной, трагической и безвременной, погибли молодые люди. Вследствие этого случай имел общественный резонанс и был связан с участием в погребении большого числа социальных представителей «группы умершего». В качестве основных социальных субъектов - участников погребения выступали семья, учебное заведение, в котором учился погибший, дружеское сообщество. Рассматриваются социальные роли, характер взаимодействия, поведение, оценка ритуальных действий с позиций различных участников. Специфика ритуального сценария была связана с типом смерти, личностью и социальным статусом умершего, возрастным составом участников. Если в традиционной культуре причастность к «группе умершего» определяется статусами родственников и ритуальных специалистов, то в современном городском ритуале она прерывается отношениями, основанными на других социальных связях. По сценарию погребения выявляется структура социального пространства покойного. В рассмотренном случае большую роль играли друзья. Подобно членам семьи, друзья частично оказываются в роли объекта ритуала. Высокая степень интеграции дружеского молодежного сообщества явилась одной из отличительных черт данных похорон.
Современный городской ритуал, погребение, социальные субъекты
Короткий адрес: https://sciup.org/14750456
IDR: 14750456 | УДК: 393(470.21)
Текст научной статьи Современный погребальный ритуал с позиций его участников
УЧАСТНИКИ ПОГРЕБЕНИЯ
Динамика современных российских погребальных практик до известной степени соответствует общемировым тенденциям, включающим плюрализациюритуальныхформ, совершенствование технологий погребения, распространение кремации, изменение отношения в обществе к смерти и др. [6], [7], [8]. Вместе с тем история погребального обряда в России новейшего времени имеет специфику, связанную, в первую очередь, с формированием в предреволюционный и советский периоды гражданской похоронной обрядности [2], [4]. Распространение гражданского ритуала, его взаимодействие с традиционными народными и церковно-каноническими сценариями породило многообразные симбиотические формы.
Особенности ритуальных сценариев во многом определяются составом и характером взаимодействия их участников. В традиционном погребальном ритуале участники распределяются на условные группы «своих» и «чужих» в зависимости от их причастности к основному объекту – умершему. В «группу умершего» входят родственники, ритуальные специалисты, а также лица, принадлежащие к особым социальным
категориям (старшему поколению, нищим и пр.) [1; 196], [3; 97–104].
Исключение родных из числа действующих лиц погребального сценария иногда рассматривается этнографами как свидетельство редукции обряда, сужения сферы бытования (см., например, [5; 99]). Фактически же в процессе трансформации процедур погребения меняется структура посреднического социального пространства, которое в традиционном ритуале включало односельчан, плакальщиц, представителей религиозных институтов. «Достойное» проведение обряда предполагает общественное представительство.
Выделение ритуальной службы в самостоятельную отрасль, в первую очередь коммерческую, отчасти – государственную и муниципальную, особенно усложнило ролевую структуру социального пространства в ситуации погребения.
Выявление состава, характера взаимодействия, поведения участников погребения и стало целью нашего эмпирического исследования. Объектом изучения была конкретная ситуация погребения в г. Апатиты Мурманской области. В результате автомобильной аварии 28 ноября 2010 года погибли четверо молодых людей: три жительницы Кировска и житель Апатитов (рассмотренный случай касался последнего). Это был особый случай, который связан с участием в погребении большего, чем это происходит в ситуациях типовых частных похорон, количества социальных представителей. Для исследования были отобраны представители студенческой группы, администрации университета, дружеской общности, прессы, неформальной молодежной организации. Позиция семьи выявлялась по косвенным данным. Помимо интервьюирования осуществлялся анализ пресс-публикаций, информации социальных сетей, видеоматериала.
ОБЪЕКТ РИТУАЛА: УМЕРШИЙ
Характер данных похорон определялся прежде всего типом смерти. Смерть была коллективной, «неестественной» и «безвременной». Большое значение имело то, что погибшие были членами городской команды КВН и ехали с областного конкурса. Прижизненная включенность объекта погребения в социальные связи является важным фактором, влияющим на состав участников, структуру, оформление ритуала. В целом общественный резонанс был ограничен молодежностуденческой средой, но погибшие были активно вовлечены не только в общение со сверстниками. В малом городе, процент молодежи в котором достаточно высокий, жизнь многих горожан, во-первых, связана с университетской средой, во-вторых, объединяется вокруг таких культурных мероприятий, как КВН. В силу этого гибель и похороны молодых людей стали событием городского масштаба. Похороны имели публичный характер, получили освещение в местной прессе. Приехали иногородние участники (не родственники), что рассматривается как важный показатель отношения к умершим. Публичность и многолюдность похорон можно отнести к основным признакам рассматриваемого случая: «„народу было, я такого никогда, если честно, не видела, полгорода было. Молодежь, очень много было молодежи. <„> Ну, во-первых, в газету сразу напечатали, во-вторых, много было разговоров об этом. <„> Если хоть и приезжий человек, он хоть раз все равно был на КВНе, что-то слышал, кто-то что-то рассказывал» (И1) и т. п.
В целом процедура разделилась на два основных этапа: коллективная панихида в г. Кировске и индивидуальные погребения на разных кладбищах Кировска и Апатитов – по месту жительства погибших. Апатитчанином был один – студент университета. По наблюдению участников, именно ему из четверых погибших уделялось большее внимание на этапе коллективного прощания. Фотокорреспондент, который ранее не был знаком ни с одним из умерших, заметил: «„то, что мне показалось странным не во всей процессии, а в этом случае, не то чтобы странным, а бросилось в глаза, - это то, по сути, погибло четыре человека, а говорили о смерти одного, который там был известен, занимался КВНом, а все остальные трое погибли и погибли» (И7). Примерно так высказывались и другие информанты. Это свидетельствует об осознании (или ощущении) чего-то не вполне нормативного, что становится очевидным в случае коллективного прощания: «...я считаю, что это правильно. Ну, такая ситуация - они погибли вместе и, считаю, что все сделали правильно, и хоронили их вместе, и прощание вместе, да. И тем не менее, что акцент был сделан на Никиту - это было явно» (И4). По тем или иным причинам представительство одного из умерших на коллективной панихиде оказывается численно большим, и вследствие «перевеса» возникает противоречие между одним из смыслов ритуала погребения («смерть уравнивает») и реальной социальной ситуацией, в которой «вес агента» определяется «символическим капиталом» (П. Бурдье).
Образ умершего всегда идеализирован. Важно, насколько в личности умершего отмечаются конкретные, индивидуальные качества. Погибший единодушно характеризовался в первую очередь свойствами коммуникабельности, активности, талантливости, разносторонности интересов: «... он был действительно уникальный человек, ему не было двадцати лет, и вся область знала его, и по телевидению показывали, в газетах печатали. <„> „.Ивот он очень одаренный человек был» (И2); «... он был очень веселый, позитивный, душой компании, его очень любили » (И3) и т. п.
КВН – главный знак покойного. По мнению информантов, игра была его призванием. Символично, что и гибель связана с поездкой на КВН. Прощание после панихиды сопровождалось аплодисментами, как на похоронах актеров.
СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ РИТУАЛА
Особенность субъектно-объектных отношений в ритуале заключается в том, что на разных его этапах объектом, на который направлены обрядовые действия, выступает не только умерший, но и те, кто входят в его группу, в первую очередь родственники [1; 197]. Члены семьи оказываются более объектом помощи, чем действующими лицами. В рассказах о погребении акцент делается не столько на их действиях, сколько на состоянии. Состояние «ни живы, ни мертвы» в речи молодежи чаще всего обозначается эпитетом «никакие». По неписаному правилу, самых близких нельзя оставлять одних и без внимания в период погребальных мероприятий и в последующее время: «_маму мы не оставляли, каждый день в гости приходили. У нас такие смены были, сегодня вот мы пойдем, завтра другие„ приходили, спрашивали, чем помочь, потому что мама никакая была, мы как-то ее, ну, разговаривали с ней, общались» (И2). Со- стояние родителей, особенно матери умершего, было самым сильным впечатлением участников от всей процедуры: «…на кладбище, когда были последние прощания самые, там мама, ну, у нее истерика, можно сказать, случилась, она кидалась, не хотела отпускать, кричала, рыдала, ее как-то попытались там подойти, успокоить, но там решили, что не надо, чтобы мама выплакалась, чтобы уже отпустила человека» (И1). Организаторы погребения отмечали, что родители «были не в состоянии общаться» с ними.
Необходимость избавить родных от хлопот мотивируется большой эмоциональной нагрузкой, которая усиливается при столкновении с бюрократическими и ритуальными службами, формально выполняющими свои обязанности: « И отношение у самих работников такое: мы вот вам все делаем, а вы неблагодарны, когда ты в таком состоянии, ты еще должен этим всем заниматься, это очень сложно. Нагрузка эмоциональная ужасная » (И1).
Участники погребения вольно или невольно примеряют ситуацию на себя и смотрят на происходящее с позиции родственников умершего. Это позволяет увидеть самые проблемные аспекты проведения погребальных мероприятий. В данном случае одну из проблем составляет соотношение публичности и интимности в процедуре погребения. С одной стороны, массовый характер похорон – знак уважения к покойному, присутствие на похоронах призвано поддержать близких. Например, говоря о состоянии отца, один из информантов – друзей погибшего не без удовлетворения заметил: «… он не ожидал, что у Никиты столько много друзей, столько знакомых, которые собрались и помогали во всем » (И2). С другой стороны, многолюдность мешает родным проститься с умершим и выразить горе без посторонних. По этому поводу у некоторых присутствовавших возникала рефлексия: « И как бы, не знаю, мне такая публичность показалась чрезмерной. Потому что это очень личное, и хоть они таким образом и высказали свое… свою скорбь, но тем не менее мне кажется, что мальчик молодой, и у него друзья, естественно, все – молодежь, это больше их выражение. А со стороны родственников, ну, как мне показалось, наверное, неоднозначно было воспринято, ну это личное, и мне кажется, что это должно быть приватно все, нежели общественно. Хотя такая двоякая ситуация » (И4). Вопрос о допустимости и границах публичности касается освещения смерти и похорон в печати. Как пояснил корреспондент городской газеты, его издание исходит из того, « чтобы лишний раз там не травмировать родных » (И7).
Неоднозначно оценивалась и коллективность панихиды. Размышляя над этим вопросом, информанты склонялись скорее к тому, что похороны должны быть индивидуальными: «…мне сложно судить, насколько в каких отношениях они (погибшие в аварии. – Л. Б., И. Р.) были до этого, но если бы я это организовывал, я бы организовал отдельные штуки. То есть мне не критично, я не особо протестую против этого, но тем не менее вот я бы сделал раздельные похороны» (И7). Индивидуализация погребения предполагает разделение участников по группам эксклюзивных представителей каждого погибшего, а ядро таких групп составляют родственники. Между тем причастность к «группе умершего», определяемая юридическими или фактическими статусами родственников, во многих случаях прерывается отношениями, основанными на других социальных связях: дружеских, коллегиальных, субкультурных.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УМЕРШЕГО: ОРГАНИЗАЦИЯ
Коллективность смерти сказалась не только на массовости погребального мероприятия, но в первую очередь на его сценарии. Были организованы общая панихида, общее отпевание всех четверых погибших. Для проведения панихиды был выбран Дворец культуры г. Кировска. Местом работы трех погибших было ОАО «Апатит», местом учебы четвертого – Кольский филиал Пет-рГУ. Между этими организациями распределились функции по проведению похорон. Степень участия зависела как от числа погибших, так и от социально-экономического статуса организаций. Большую часть расходов и видов деятельности взял на себя комбинат при участии университета. Распределение обязанностей является неформальным. Участие учреждений в погребении квалифицируется законом2 и рассматривается населением как «помощь» семье и близким умершего. Это помощь прежде всего материальная и организационная. Представители организаций выполняют роль посредника взаимодействия семьи с теми, кто непосредственно осуществляет юридическое и ритуальное обеспечение похорон: государственными учреждениями, ритуальными службами, при необходимости – с церковью. Специалист по связям с общественностью КФ ПетрГУ определила главные моменты такого посредничества со стороны ОАО «Апатит»: «… она как большая организация брала на себя всю основную организацию похорон. Они организовывают прощание, они организовали батюшку, они организовывали поездки, они организовывали кладбище» (И5). Посредническая помощь выражается в конкретных действиях: «связались», «ходили», «ездили», «писали служебные записки», «заказывали», «созванивались» и т. д. В случае коллективного ритуального мероприятия организациям приходится дополнительно согласовывать свои действия: «Нужно было скоординировать свои действия с комбинатом “Апатит”. Одно дело, когда это свой человек, и ты ни от кого не зависишь, и не надо ни с кем вот это вот согласовывать, просто делаешь это для своего человека и все» (И6). Отметим это разделение погибших на «своих» и «не своих» -по признаку корпоративной принадлежности. Учебное заведение приняло на себя обязанности в отношении семьи «своего» погибшего: «...я беседовала с организатором похорон от факультета, они действительно много сделали, они и гроб заказали, и крест, всю эту атрибутику, и со справками помогли, чтобы родные Никиты меньше бегали» (И5). Представители университета обеспечили информацию в прессе.
Внутри учреждения учитывается место умершего в организации: обязанности распределяются по степени близости к объекту погребения. Имеют значение структурное подразделение, статус. Так, работники организационного отдела университета не ездили на кладбище, в отличие от представителей факультета и кафедры. Распределение функций и положение умершего в организации позволяют им это. Ситуация типична для городских похорон: участники условно делятся на тех, кто приходит только на панихиду, и тех, кто едет на кладбище. Среди первых многие испытывают потребность оправдаться (как заметила одна из информантов, это « морально тяжело »). Присутствие на кладбище - знак особого уважения, близости к умершему и его родным, свидетельство неформальных отношений или особого переживания «долга». Место проведения панихиды, кладбище, место поминок в день похорон - это три ритуальных пространства, различающиеся по степени публичности - приватности. Представитель факультета пояснила, что «именно поминками уже занимались родственники, потому что это очень личное дело. Мы туда, значит, были приглашены как люди, которые знали его очень хорошо » (И6). Ритуальное обережное предписание не приглашать на поминки (как и на похороны) чаще не соблюдается. Тем более это относится к поминкам, которые проводятся в частном доме, квартире. Приглашение в особенности требуется для участников, недостаточно знакомых с родственниками умершего, поскольку они были связаны с ним в основном по роду деятельности. В более поздние сроки умерших принято поминать на месте работы, учебы: «_ в годовщину мы ставим у себя на факультете фотографию с цветами в знак того, что мы о нем помним » (И6).
Участие большого числа субъектов-организаторов минимизировало деятельность семьи, особенно на подготовительном этапе погребения. Момент получения известия о смерти и первый отрезок времени, непосредственно приближенный к нему, - это критическая фаза для живых. Именно в это время необходим модератор, который если и переживает утрату, то не столь остро, как близкие. Он призван стаби- лизировать ситуацию, для начала - определить действия по ее упорядочению: «Мы об этом узнали утром, когда мы пришли на работу. Для нас это было, конечно, ужасно, вот первые, наверно, где-то полчаса мы не знали за что хвататься, вот, так-то, действительно, шоковое состояние, потому что мы все его хорошо знали, такой человек. Ну, потом уже связались с родственниками… спросили, что, чем мы можем конкретно помочь, вот, сами уже начали у себя на факультете, значит, обмениваться информацией, как и что, так как каждый из нас через это проходил, чтобы вычленить какую-то последовательность действий» (И6).
Виды деятельности по обеспечению похоронного ритуала разнообразны: от литературной (написание некролога) до физической (для переноски погребальной утвари требуется мужская сила). Хлопоты, связанные с организацией погребения, оцениваются представителями учреждения как «неприятные». И не только потому, что они связаны с горестной ситуацией, но и в силу сложности бюрократической процедуры: «_ везде, значит, все строго для людей, которые работают в этих службах, это рутина, их можно понять, потому что, если вникать в каждого, то с ума можно сойти » (И6). По мнению информантов, у тех, кто по роду занятий выполняет ритуальные функции, должно отсутствовать эмоциональное восприятие погребения. Вместе с тем положительная оценка действий ритуальной службы основывается на том, что работники проявили неформальное отношение к клиентам: сотрудница фирмы дала для связи свой личный номер телефона; когда возникли проблемы со сменой гроба и с отсрочкой оплаты, в фирме « пошли навстречу ». Если речь заходит о «своем» случае, от служащих требуют не столько соблюдения профессиональных нормативов, сколько «понимания». Рутинизация и стандартизация процедур оформления кончины и погребения являются обязательными условиями сглаживания критической ситуации смерти, травмирующей непосредственно или опосредованно. Убеждение в стандартности действий служит психологической защитой тем, кто занимается организацией похорон: « В мои задачи входит, понятно, что все печально, грустно и нелегко дается, такие вещи. Но я пытаюсь абстрагироваться… Поэтому нельзя сказать, что что-то запомнилось, все было, как всегда, стандартно» (И5). Стандартность представляется информантом в виде своеобразной последовательности действий и атрибутов похорон: «... это куча людей, слезы, отпевание, погрузка в машины и поездка на кладбище ».
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УМЕРШЕГО: ДРУЗЬЯ
Одной из отличительных черт рассматриваемого случая является высокая степень интегра- ции дружеского молодежного сообщества. Друзья принимали деятельное участие в ритуальных мероприятиях на всех этапах, оказывали организационную, финансовую, психологическую помощь семье погибшего. Четкое взаимодействие в дружеской сети было обеспечено современными средствами коммуникации. Территориальная отдаленность места аварии, которая произошла на трассе около Мурманска, почти не повлияла на скорость распространения известия о смерти благодаря мобильной связи и социальным сетям. Информационные сети сыграли большую роль в координации действий молодых участников погребально-поминальных мероприятий. Они способствовали четкому взаимодействию: «связались», «созвонились», «договорились». Сетевые возможности были широко использованы для выражения скорби друзей и знакомых умершего. К специфическим способам можно отнести, в частности, обращение к умершему через страницу в социальной сети «ВКонтакте», выставление фото умершего на аватаре. Многие размещали фотографии, на которых они запечатлены вместе с погибшим.
Согласовав свои действия через социальную сеть, друзья погибшего провели спонтанную панихиду. «Это был какой-то сабантуйный митинг, через социальные сети они как-то договорились» , – заметил один из наблюдателей, знакомый с ситуацией, но не с умершим и его друзьями. Стихийная гражданская панихида составила своеобразную альтернативу аналогичному официальному мероприятию, включенному в сценарий общественного прощания. «Митинг» проводился на площади перед Дворцом культуры г. Апатиты. На него была приглашена мама покойного. Местное телевидение осветило данное событие в хронике новостей. Несанкционированное собрание привлекло внимание милиционеров, но, узнав причину, они не стали ему препятствовать.
По сценарию погребения выявляется структура социального пространства покойного, которая может быть представлена как система взаимно пересекающихся кругов: друзья детства, одногруппники, одноклассники, члены команды КВН и причастные к ней лица, коллектив учебного заведения и др. Центральные позиции в этой сети заняли КВНщики. Особенность ситуации одновременных похорон сказалась на том, что некоторым присутствующим пришлось или разделиться на этапе индивидуального погребения (на кладбище) и поминовения, или распределять время между участием в мероприятиях, которые проводились в близлежащих городах. Это были в основном члены круга КВНщиков, хорошо знакомые со всеми погибшими.
На похоронах достаточно четко обозначены границы между «близкими» и «дальними», «своими» и аутсайдерами. Работник прессы признал- ся, что не принес цветы на прощание, поскольку находился там по заданию редакции и не был уверен в этичности этого действия. Таким образом, разграничиваются личное и служебное участие в погребении. Рассказывая о реакции в университете на событие, представитель студенческой группы заметил, что «на похороны они тоже пришли». Имелись в виду преподаватели и работники кафедры и факультета – официальное представительство, противопоставленное «нам» – дружескому, студенческому, молодежному сообществу. Выстраивается определенная иерархия, соответствующая сложной системе социальных связей умершего, включая шкалу по степени знакомства. Она накладывается на традиционное разделение участников погребения на родственников и остальных. Взаимную ревность неродственников, их скрытое соперничество по поводу того, кто ближе был умершему, можно наблюдать, в частности, по поминальным речам и их оценке. К устойчивым формам выражения и демонстрации статусов относятся очередность прощания, пространственное размещение участников церемонии, последовательность ритуальных речей и т. д. Друзьями покойного ритуальная регламентация поведения воспринимается как избыточная, ненужная, хотя и неизбежная («ничего тут не сделаешь»). Дружеские отношения предполагают неформальную связь с умершим и не терпят «процедурности». Признавая функциональные обязанности работников кладбища, друзья тем не менее испытывают потребность собственноручно хоронить умершего: «…рабо-чие начали закапывать, но мы их в сторону и сами начали закапывать, насколько сил хватило, кое-как закопали его, сделали, я не знаю, как это называется, чтобы красиво было» (И2).
Подобно членам семьи, друзья частично оказываются в роли объекта ритуала и сами нуждаются в поддержке. Об этом свидетельствуют описания их эмоционального потрясения. Острота восприятия ситуации связана с возрастом данной категории участников похорон. Многие из них впервые столкнулись со смертью близкого человека и впервые оказались на погребении, то есть в роли, характерной для старшей возрастной группы. Все молодые участники подчеркивали, что они поддерживали и утешали друг друга. В ситуации утраты общность должна быть сплоченной. Если с позиций сторонних наблюдателей, официальных организаторов и лиц, для которых ритуальная процедура более или менее привычна, достойное погребение отличает « четкая организация », то с позиции близких или тех, кто впервые были на похоронах, «все зависело не от того, насколько все организовано хорошо, а насколько люди чувствуют хорошо. Чувство вот такого вот сплочения, да. И так как чувствовалось вот это единение, я считаю, что именно по этому критерию похороны прошли хорошо» (И4).
* Статья выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» по проекту «Погребально-мемориальная культура “советских” городов в XX – начале XXI вв.».
ИНФОРМАНТЫ
И1 – женщина, 1991 г. р., подруга детства.
И2 – мужчина, 1985 г. р., друг по молодежному объединению КВН.
И3 – мужчина, 1990 г. р., соученик по университету.
И4 – женщина, 1990 г. р., знакомая, работник редакции.
И5 – женщина, 1985 г. р., специалист по связям с общественностью.
И6 – женщина, 1982 г. р., заведующая лабораторией факультета.
И7 – мужчина, 1989 г. р., корреспондент городской газеты.
CONTEMPORARY FUNERAL RITUALS AND INVOLVEMENT OF MOURNING PARTICIPANTS
Список литературы Современный погребальный ритуал с позиций его участников
- Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре: структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993. 240 с.
- Полищук Н. С. Обряд как социальное явление (на примере «красных похорон»)//Советская этнография. 1991. № 6. С. 25-39.
- Седакова О. А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. М.: Индрик, 2004. 320 с.
- Соколова А. Похороны без покойника//Антропологический форум. 2011. № 15. С. 187-202.
- Христолюбова Л. С. Семейные обряды удмуртов (Традиции и процессы обновления). Ижевск: Удмуртия, 1984. 128 с.
- Kawano S. Nature’s Embrace: Japan’s Aging Urbanites and New Death Rites. Honolulu: University of Hawaii Press, 2010. 240 p.
- Howarth G. Death and Dying: a sociological introduction. Cambridge: Polity Press, 2007. 312 p.
- Walter T. Why different countries manage death differently: a comparative analysis of modern urban societies//The British Journal of Sociology. 2012. Vol. 63. P. 123-145.