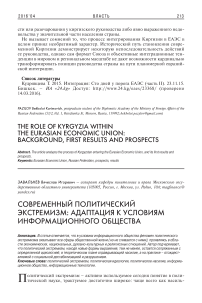Современный политический экстремизм: адаптация к условиям информационного общества
Автор: Завальнев Вячеслав Игоревич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политика в фокусе
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье отмечается, что в условиях информационного общества феномен политического экстремизма охватывает все сферы общественной жизни (но не сливается с ними), проявляясь в области экономических, национальных, духовно-культурных и религиозных отношений. Автор подчеркивает, что политический экстремизм, находя новые формы выражения, тем не менее остается сопряженным с определенной идеологией, в теоретическом плане оправдывающей насилие, а на практике отождествляемой с социальной дестабилизацией и разрушением.
Политический экстремизм, политическая идеология, политическое насилие, информационное общество, информационные технологии
Короткий адрес: https://sciup.org/170168375
IDR: 170168375
Текст научной статьи Современный политический экстремизм: адаптация к условиям информационного общества
Политический экстремизм – активно используемое сегодня понятие в политической науке, трактуемое достаточно широко: чаще всего как насиль- ственные и гораздо реже как ненасильственные действия различных политических сил (социальных групп, организаций, партий, движений), принципиально отрицающие возможность каких-либо компромиссов и направленные на изменение существующего политического строя, захват власти и ее использование в собственных интересах. В международном правовом поле политический экстремизм определяется как «разновидность политической деятельности, отвергающая основополагающие концепции парламентской демократии»1. Латинский термин extremus означает «крайний», поэтому политический экстремизм, как правило, связывают с приверженностью в политике к крайним взглядам, реализуемым на практике насильственными методами.
Исходя из того, что политический экстремизм носит исторический характер, его проявление на различных этапах цивилизационного развития имеет свои особенности, соотносимые с уровнем социального и научно-технического прогресса. Информационное общество отличается от традиционного и индустриального тем, что в нем доминируют информация и знания, в результате чего к власти приходит инфократия с более «мягкими» формами ее удержания и использования. Однако это не означает, что политический экстремизм в условиях информационного общества изживает себя, – он, адаптируясь к новым условиям бытия, становится более изощренным, но по-прежнему коварным и агрессивным. Как подчеркивают отечественные исследователи, деятельность современных политических радикалов, подстраиваясь под специфику бытия информационного общества в эпоху Постмодерна, часто принимает весьма экстравагантные формы.
В свое время западные ученые, стоящие у истоков формирования концепций, моделей, теорий информационного общества, утверждали, что классовая структура общества лишается объективного смысла, исчезает и уступает место двухчленной элитарно-массовой структуре (по словам Э. Тоффлера, исчезает пролетариат и появляется когнитариат), соответственно, классовая борьба уступает место социальному партнерству и взаимодействию. Социальная практика, однако, говорит о другом – переход общества в информационную стадию развития сам по себе не решает социальные проблемы.
Возрастание роли и численности работников интеллектуального труда несет с собой ощутимые негативные последствия для той части трудоспособного населения, которое отчуждено от использования информационных технологий и всего того, что несет с собой информатизация всех сфер общественной жизни. Именно эта часть населения оказывается либо на грани безработицы, либо пополняет ряды безработных. (Но и в среде тех, кто находится на гребне волны информатизации, растет конкуренция за «место под солнцем».) В результате проблемы изначально чисто экономического характера, вызывая недовольство масс, перерастают в проблемы политические, связанные со снижением уровня защищенности, а значит и безопасности не только отдельных личностей, но и целых социальных групп и слоев. Низкий уровень жизни, бедность, безработица, ощущение социальной несправедливости и ущемленности своих прав и свобод, утрата доверия к политической власти – все это благодатная почва для иррациональной реакции на сложное социально-экономическое положение, в котором оказались люди, достигнувшие черты бедности или перешагнувшие ее пределы и потому безусловно готовые принять насилие как способ выхода из нищенского существования и достижения приемлемых условий жизни в информационную эпоху.
Этим активно пользуются те, кому необходимо пополнять ряды радикально настроенных лиц, – политические (в т.ч. экстремистские) организации, стремящиеся на волне активно проявляемого недовольства масс прорваться к политической власти. В современном мире таких примеров много: достаточно обратить внимание на события, связанные с так называемыми цветными революциями на постсоветском пространстве или в арабских странах (Арабская весна). Предотвратить такого рода политические процессы удается лишь за редким исключением, несмотря на то, что исторический опыт наглядно показывает, что «освобождение» от государственного насилия путем «насилия революционного», продиктованного идеологическими постулатами, ведет к формированию еще более жесткого политического режима, мало совместимого с самой идеей «справедливой государственной власти». Более того, нельзя отрицать, что эффективность действий экстремистских группировок в данных условиях перехода общества в информационную стадию развития достаточно велика.
В новой информационной среде стало возможным управление массовыми политическими выступлениями, перерастающими в беспорядки и революционные выступления, «со стороны» (извне), посредством современных средств массовой информации и коммуникации. Так, в Ливии, события в которой положили начало Арабской весне, число пользователей социальных сетей возросло с 4% в начале массовых выступлений до 17% (около 1 млн чел.) при переходе их в активную фазу (ливийскую революцию). В Египте только за один месяц протестных выступлений (январь–февраль 2011 г.) более 34 млн чел. получили в социальных сетях руководство к дальнейшим действиям 1 . Аналогичная картина наблюдалась в других североафриканских странах (Тунисе, Сирии), а также в период массовых действий экстремистских сил в Украине (Майдан) 2 – так называемая корректирующая информация стала своеобразным катализатором перехода к открытому насилию, последующим репрессиям и гражданским войнам.
Важным направлением информационной деятельности является формирование информационной инфраструктуры – различных информационнообразовательных центров в пограничных с Россией территориальноинформационных пространствах, финансируемых за счет западных стран. Так, только на средства филиала фонда Сороса при посольстве США в Бишкеке (Киргизская Республика) ежегодно проходят подготовку около тысячи молодых людей; в Таджикистане за счет полного финансирования США были созданы 8 интернет-центров и местная ассоциация интернет-провайдеров. В принципе – это благие цели, если бы не одно «но»: весь этот потенциал интернет-активистов, блоггеров, провайдеров держит связь с российскими молодежными радикальными и экстремистскими организациями, что однозначно представляет собой серьезную угрозу дестабилизации социально-политической обстановки в России.
Каждая новая стадия цивилизационного развития привносит не только новые условия нашей жизни, но и новые ценности, не всегда разделяемые всеми членами общества. Но объективный процесс социализации включает их в свое содержание, заставляя каждого человека принимать на себя и выполнять определенную социальную роль, что является основополагающим условием самовоспроизвод-ства социально-политической среды. При этом нельзя не обращать внимание на неприкрытые вызовы политической безопасности личности, содержащиеся в якобы безликих обращениях представителей «пятой колонны» внутри нашей страны, в т .ч. из числа ученых.
Особую угрозу политической безопасности личности представляет внедрение политического экстремизма в молодежную среду. Как утверждают отдельные исследователи этого явления [Бааль 2012], высокий уровень экстремистского сознания всегда был свойственным молодым людям. Очень важной основой вовлечения их в экстремистские политические организации является возрастающая социальная напряженность, жесткая конкуренция на рынке труда, высокое имущественное расслоение общества, коррупция и криминализация в сфере бизнеса, безнаказанность и вседозволенность представителей «золотой молодежи». Только за первое полугодие 2015 г. общая численность преступлений экстремистской направленности в РФ увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., а террористических проявлений – почти на 40% 1 . Такой значительный прирост руководство МВД РФ объясняет значительным расширением борьбы специальных и правоохранительных органов с проявлениями экстремизма в глобальной сети Интернет и началом уголовных расследований в отношении лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах за рубежом (Сирия, Ирак, Украина). Попав под влияние экстремистской пропагандистской машины, молодые люди видят в экстремизме едва ли не единственную форму разрешения политических проблем и решительно встают на путь насилия и крайней жестокости.
Большую угрозу политической безопасности личности в информационном обществе представляет латентная (скрытая) форма политического экстремизма в виде зреющего потенциала массового недовольства и неудовлетворенности своим положением, чреватого быстрым переходом в открытые акты неповиновения, прямого насилия и произвола с неярко выраженной политической мотивацией. Причиной этого могут служить коррупция и протекционизм на государственном уровне, злоупотребление должностными полномочиями или их использование в корыстных целях, непринятие решений по жизненно важным для рядовых граждан вопросам и т.д. Кроме того, важной причиной латентного политического экстремизма могут служить так называемые остаточные явления переходного общества (нарушение принципов социальной справедливости при распределении общественных благ, криминализация жизни, эмиграция из страны интеллектуальной части населения – «утечка мозгов», духовная и нравственная деградация – пьянство, наркомания, проституция, скатывание отдельных социальных групп и слоев за черту бедности и др.).
Таким образом, политический экстремизм – явление историческое, своими корнями уходящее в далекие времена, когда пронизывающая все сферы жизнедеятельности и приносящая материальные выгоды политическая власть стала объектом устремлений и предметом вожделений как отдельных личностей, так и целых социальных групп. Монополизировавшие власть и наслаждающиеся ее преимуществами (Г. Моска) используют для этого любые – законные и незаконные – методы ее удержания, невзирая при этом ни на нравственные барьеры, ни на общечеловеческие ценности, ни на интересы других людей. В этом отношении политический экстремизм – достойный преемник человеческих властных устремлений, в полной мере вобравший в себя весь негативный арсенал форм, средств и методов достижения власти в зависимости от того или иного этапа цивилизационного развития социума.
В целом политический экстремизм в условиях постиндустриализма находит новые формы выражения, которые проявляются как в прямой форме насилия для нелегитимного прихода к власти, так и в латентной форме потенциальных и далеко не всегда предсказуемых политических действий – от относительно мир- ных форм (демонстрации, митинги, шествия) до радикальных насильственных и агрессивных (вооруженные столкновения, революции, гражданские войны). Соответственно, политическая безопасность личности в условиях информационного общества зависит от многих факторов – как традиционных, характерных для любого исторического этапа развития, так и специфических, свойственных эпохе постиндустриализма.
Список литературы Современный политический экстремизм: адаптация к условиям информационного общества
- Бааль Н.Б.2012. Политический экстремизм российской молодежи и технологии его преодоления: автореф. дис. … д.полит.н. Н. Новгород. 43 с