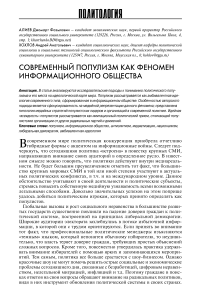Современный популизм как феномен информационного общества
Автор: Алиев Д.Ф., Хохлов А.А.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 6, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются исследовательские подходы к пониманию политического популизма и его места на идеологической карте мира. Популизм рассматривается как амбивалентная идеология современного типа, сформированная в информационном обществе. Особенностью авторского подхода является сфокусированность на медийной репрезентации данного феномена; представлена типология медийных стратегий популистских лидеров и организаций в современной политике. Идейная «всеядность» популистов рассматривается как имитационный политический прием, отличающий популистские организации от других радикальных партий и движений.
Популизм, информационное общество, антиэлитизм, медиатизация, национализм, либеральная демократия, амбивалентная идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/170207789
IDR: 170207789 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-6-96-110
Текст научной статьи Современный популизм как феномен информационного общества
В современном мире политическая конкуренция приобрела отчетливо гибридные формы с акцентом на информационные войны. Следует подчеркнуть, что сегодняшняя политика «встроена» в повестку крупных СМИ, направляющих внимание своих аудиторий в определенное русло. В известном смысле можно говорить, что политики действуют внутри медиареальности. Не будет большим преувеличением отметить тот факт, что большинство крупных мировых СМИ в той или иной степени участвуют в актуальных политических конфликтах, в т.ч. и на международном уровне. Данное обстоятельство учитывают в своей деятельности и политические субъекты, стремясь повысить собственную медийную узнаваемость всеми возможными легальными способами. Довольно значительных успехов на этом поприще удалось добиться политическим игрокам, которых принято определять как популистов.
Глобальные вызовы и рост социального неравенства в большинстве развитых государств существенно повлияли на падение доверия граждан к политической системе, построенной на принципах либеральной демократии. Широкие аудитории электората захлебнулись в потоке избыточной информации, в которой они с трудом ориентируются. Если принять во внимание тот факт, что профессиональные политические менеджеры изъясняются «темным» языком, который непонятен обычному избирателю, то неудивительно, что власть теряет доверие граждан, требующих простых объяснений сложных вопросов. Кроме того, повсеместно утвердилась практика удерживать внимание избирателей с помощью ярких и запоминающихся мероприятий. Тем самым, политика все больше срастается с шоу-бизнесом. Однако красочные шоу не могут помочь решить острые социальные и экономические проблемы сегодняшнего дня, связанные с безработицей, цифровым неравенством, нелегальной миграцией, инфляцией и т.д. Поэтому граждане в поисках ответов на свои вопросы обращают внимание на радикальных политиков, видя в них инструмент обновления политической системы в своих странах.
Речь идет прежде всего о странах Запада, но и на других континентах популизм набирает силу.
Цель данной статьи – рассмотреть феномен популизма как результат медиатизации политики в обществе современного типа.
Научные подходы к анализу феномена популизма
Прежде всего, следует отметить, что многие исследования посвящены разбору конкретных кейсов политических действий популистских партий и движений. Обзоров политических и идеологических концепций, которые используют популисты в своей риторике, гораздо меньше [Albertazzi, McDonnell 2008; Arditi 2007; Aslanidis 2018; Мюллер 2018; Wodak, Khosravinik 2013; Осколков, Тэвдой-Бурмули 2018].
Сам термин «популизм» достаточно размыт и имеет много определений в политических науках в зависимости от идеологической и методологической позиции авторов.
Некоторые отечественные исследователи не видят оснований различать правых популистов и правых радикалов [Погорельская 2004]. Другие анализируют популизм как одну из форм политических отношений, когда «высокие» политические цели декларируются с помощью «низкого» политического языка [Ostiguy 2009]. Социолог П. Асланидис считает, что популисты работают с особыми фреймами, позволяющими цементировать диффузное политическое пространство современных государств [Aslanidis 2018]. Представители неомарксистской социологии также пишут о способности популистов структурировать политическую неопределенность и ценностную размытость западных демократий [Laclau 2005].
Недостаточно внимания уделяется изучению репрезентации идеологии этих политических сил в глобальном информационном пространстве. Известные исследователи популизма Р. Водак и М. Хосравиник полагают, что применительно к популистам нет смысла говорить о доктринах или идеологических концептах, поскольку, по их мнению, речь идет о наборе различных верований, стереотипов и риторических уловок, направленных на мобилизацию электората [Wodak, Khosravinik 2013: xvii].
В целом многообразие научных подходов к изучению популизма объединяют в три группы: идеационный, политико-стратегический и перформативный методы [Шеин, Аликин 2022]. Каждый метод обладает определенными достоинствами и недостатками. Перформативный подход интересен тем, что обращает внимание на стиль поведения политиков в информационной среде. В частности, перформативность политиков популистского толка выражается в умении политизировать любые проблемы с помощью информационных ресурсов [Шеин, Аликин 2022: 209]. Классическим методом анализа рассматриваемого феномена остается подход Я.-В. Мюллера. Этот исследователь определяет популизм как совокупность различных концептов, которые описывают социально-политические процессы в современном мире в терминах противостояния «народа» как «морально чистого и однородного целого» и «коррумпированных элит», которые постоянно деградируют [Мюллер 2018: 36-37]. Такое понимание популизма позволяет включить в его состав самых разных с точки зрения идеологических позиций политических и государственных деятелей – Мао, Чавеса, Маккарти, Эрдогана, Моралеса, Качинского и многих других лидеров, которые мыслили и действовали в формате непримиримой борьбы с воображаемым врагом.
Популизм как амбивалентная идеология
Большинство политических заявлений и действий можно квалифицировать в терминах популизма и его различных изводов. Например, декреты советского правительства на раннем этапе – типичный популизм: фабрики – рабочим, землю – крестьянам! Обещания лидеров КПСС в 1950-е и 1960-е гг., что советские люди к концу ХХ столетия будут жить при коммунизме, созвучны сегодняшним заявлениям политиков-популистов, предлагающих простые решения сложных вопросов, начиная с социальных гарантий до проблем нелегальной миграции.
Чтобы не потеряться в океане противоречивых определений популизма, имеет смысл анализировать этот социально-политический феномен в контексте медиатизации современной политики. Трудно представить себе распространение популистского дискурса в странах западной демократии без учета глобализации, наступления постсекуляризма и роста влияния на сознание массовых аудиторий информационных технологий. Можно сказать, что все изводы современного популизма являются побочным эффектом развития информационного общества.
Констатируемый рядом ученых закат «больших идеологий» и кризис «партийных машин» обусловлены появлением аудиторной демократии, которая пришла на смену представительной демократии в результате медиатизации политического пространства [Де Бьюс 2009]. В то же время нет оснований для отказа популизму в статусе современной идеологии или, по крайней мере, идеологической «рамки», в которой могут взаимодействовать друг с другом различные идеологические концепты. Поскольку постиндустриальный период развития экономически активных государств с демократической формой власти предполагает смысловой релятивизм и радикальные изменения в классовой структуре общества, то неудивителен процесс сокращения ресурса влияния на массы старых «больших идеологий» – коммунизма, либерализма и т.д. Их место заполняют политические конструкты, не претендующие на глобальные социальные перемены, но ориентированные на решение региональных вопросов.
Анализ современных идеологий не входит в задачи данной статьи, однако следует заметить, что сегодня существуют подходы, лишающие идеологию какого-либо содержания. Например, российский эксперт Алексей Чадаев, следуя философу Славою Жижеку, полагает, что «нет и не может быть никакого отчуждаемого описания, есть просто логика конкретных ситуаций, она же по совместительству и “идеология”»1. Собственно, подобным образом, вероятно, рассуждают и популисты, произвольно применяя идеологические концепты для усиления своих позиций в медиасреде. Впрочем, популизм, заимствуя из самых разных доктрин отдельные положения и переформатируя их под собственные нужды, отвечает на актуальные запросы со стороны массовых аудиторий. Политические технологии популистов являются продуктом массовой культуры, поэтому их эффективность достаточно высока именно в западных странах.
Мировые медиамашины транслируют в массовые аудитории точку зрения истеблишмента на актуальные проблемы развитых государств Европы и Америки, а популистские движения представляют собой реакцию не самых успешных социальных групп на модернизацию общества, на радикальные культурные изменения, вызванные миграцией в богатые страны из бывших колоний, и на ослабление национальных государств. Эти социальные изменения, усугубляемые цифровым неравенством, стали питательной средой для возникновения в массовых аудиториях острого чувства растерянности и когнитивного диссонанса в современном мире больших скоростей и смысловой неопределенности. С учетом этих обстоятельств совершенно неудивителен тренд на реставрацию воображаемого «золотого века» прошлых эпох в риторике нынешних поколений националистов, традиционалистов, палеоконсерваторов и, разумеется, популистских лидеров. Вообще представления о деградации мира по мере удаления от времен «золотого века» – далеко не новая традиция. Применительно к мыслителям, которые вдохновляют популистов XXI в., можно вспомнить имена философов-традиционалистов Рене Генона и Юлиуса Эволы. Эти мыслители середины прошлого столетия бросили вызов капитализму и коммунизму [Эвола 2016] и рассуждали об инволюции современного мира, разрушаемого массовым человеком и антинациональными элитами [Генон 1991].
Антиэлитистские и антиглобалистские установки объединяют правых и левых популистов в один политический кластер, в котором действуют политические сообщества, пытающиеся прийти к власти на волне агрессивной критики либерально-демократического миропорядка. В этом смысле действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, декларирующий левые взгляды, сопоставим с праворадикальными лидерами французской «Непокоренной Франции» и испанской партией «Подемос». Везде провозглашается идея единого народа, с которым лидер поддерживает ментальную связь. При этом можно обнаружить определенные различия в идеологических заявлениях представителей правого и левого популизма. Так, по шкале инклюзивной и эксклюзивной политики левые популисты смещаются в сторону инклюзивности, а правые тяготеют к националистическому дискурсу. Тот же Николас Мадуро опирается на боливарианские тезисы, сформулированные Уго Чавесом, о борьбе народа Венесуэлы против внутренних врагов и внешних империалистических агрессоров за подлинные независимость и политический суверенитет страны и провозглашает идею социальной спра-ведливости1, в то время как правый лидер Национального фронта Марин Ле Пен делает приоритетом ограничение миграционных потоков из Магриба и Черной Африки2.
Отличия условно левых популистов от условно правых обнаруживаются и в политических темах, которые озвучивают в СМИ радикальные политики. Например, левые популисты делают акцент на социальную справедливость, проблемы равенства и экологии. Последняя тема особенно актуальна в странах Латинской Америки и Африки, где суровые климатические условия не позволяют государствам присоединиться к «зеленой» повестке, продвигаемой развитыми странами Запада.
Правые политики популистского толка традиционно сосредоточены на вопросах национальной идентичности, что сближает их с националистами. Так, правые из популистских партий Европы мишенью своей критики выби рают не то лько либеральных политиков, но и различные меньшинства, в т.ч.
этнические. В некоторых случаях такая критика трансформируется в откровенный расизм [Гриднева 2022: 88]. Идею о трансформации «старого» национализма в популистские политические манифесты разделяют некоторые отечественные исследователи [Осколков, Тэвдой-Бурмули 2018].
Национализм и популизм: сходство и различия
Мы не будем останавливаться на анализе определений понятия «национализм», поскольку сам термин многозначен и не менее размыт, чем концепт «популизм». Отметим только важную черту классического национализма: это ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая агрессия [Агеев 1990: 70-77]. Иначе говоря, националисты рассматривают свою группу как единую, целостную и однородную сущность, а внешние группы воспринимаются как сообщества чужаков, которые пытаются причинить вред нации, куда они инфильтруются.
Некоторые авторы не считают национализм полноценной идеологией, но определяют его как своего рода оптический инструмент, с помощью которого политики смотрят на политический процесс. Например, Сергей Кара-Мурза противопоставляет национализм патриотизму и полагает, что «национализм – не столько “учение”, сколько особое устройство взгляда: “национальная идея” – не картинка, а окно, сквозь которое смотрят на мир, выискивая там интересное для “национального интереса”; хороший националист видит свой интерес везде» [Кара-Мурза 2014: 7].
Вот это обращение национализма к низовой солидарности и горизонтальному товариществу «всех своих» и заимствуют современные популисты. Происходит не конвергенция идеологем, а «поглощение» популизмом любых концептов, которые можно использовать в политической борьбе за власть над умами широких масс.
В националистических движениях особую роль играет лидер, вождь, который начинает чувствовать неразрывную связь между собой и воображаемым «народом». Именно самоотождествление лидера с нацией является условием для радикализации политики в отношении «чужих» и «врагов». Похожие тенденции мы легко находим у современных популистских организаций независимо от их позиционирования по принципу «левые – правые».
В числе теоретических подходов к исследованию национализма для понимания популистских концептов самыми логичными нам представляются подходы Бенедикта Андерсона. Он понимает современную нацию как «воображаемое общество», что, безусловно, ближе по смыслу к реалиям позднего Модерна, в которых и существует популизм [Андерсон 2001].
По сути, популисты имитируют национализм, встраивая собственные интерпретации националистических теорий в свою «картину мира», где происходит столкновение интересов между «воображаемыми сообществами». Точно так же популизм имитирует и связь национализма с идентичностью. Известно, что противопоставление «мы» – «они» существовало задолго до наступления эпохи Модерна и появления политических наций [Armstrong 1982]. Однако в эпоху глобальных изменений и унификации культур потребность в определении позитивных отличий «своей» группы от всех остальных приобретает особый смысл. Индивиду XXI в. очень важно ощутить под ногами твердую почву в «текучей» реальности, что его окружает [Бауман, Донскис 2019]. Современные популисты используют эту базовую потребность индивидов в позитивной социальной самоидентификациии в политических целях.
В то время как националисты считают нацию источником власти, для популистов национальный вопрос служит только инструментом политической дискредитации существующего истеблишмента.
Публичная политическая повестка популистов
Современный популизм возник не сам по себе; он является необходимым инструментом для политиков всех типов, как «системных», так и маргиналов, чтобы эффективно взаимодействовать с аудиториями информационного общества. Рост влияния радикалов и прочих евроскептиков в Европе и США обусловлен не только недовольством граждан функционированием традиционных институтов демократии, но и попытками правительств развитых государств использовать несистемных политиков в борьбе за мировую гегемонию. Собственно, «цветные революции» – это игра на «чужой» территории с помощью местных радикалов. Однако, вызвав бурю далеко от своих границ, западные политики спровоцировали интерес к «прямой демократии» и в собственном обществе.
При этом долгое время популизм рассматривался исключительно как внутриполитическое явление в тех странах, где отмечается активность радикальных движений. Маргинальный статус популистских партий и объединений не предполагал изучения их влияния на мировую политику. И только после того, как в США и Европе популисты стали получать все большую поддержку избирателей на выборах разного уровня, исследователи обратили внимание на транснациональный характер этих новых политических движений [Chryssogelos 2017].
Заметным явлением в мировой политике популизм левого и правого толка стал после экономического кризиса 2008 г. в Европе. Тогда проблема повышенной миграционной активности и демонтаж остатков общества благосостояния выступили триггерами роста популярности популистских партий и движений в странах западной демократии. Однако западные элиты всерьез отнеслись к проблеме популизма после убедительной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 г. Именно в этот период в мейнстримных мировых медиа образы Трампа и популизма в целом предстали в крайне негативном освещении. Журналисты и политические эксперты заговорили об угрозе существующему миропорядку1.
Разумеется, авторитетные лидеры правых антиглобалистов и националистов, которых считают популистами в «старой» Европе, – Найджел Фарадж в Британии, Марин Ле Пен во Франции, Норберт Хофер в Австрии – эпатировали либеральные круги задолго до появления Трампа на политическом поле. Тем не менее именно скандальная победа Трампа в США способствовала взрывному росту медийной активности евроскептиков на пространстве от Америки до Евразии.
Современные популисты различаются по политическим целям. Скажем, скандинавские радикальные политики выбрали целью своих атак социал-демократическое государство, которое обвиняют в повышении налогов. В Бельгии радикалы выступают за федерализацию страны по языковому признаку. Во Франции и Австрии популисты выступают с «правых» позиций, критикуя миграционную политику властей (Национальный фронт) и социальные программы (Австрийская партия свободы). Греческая партия «Сириза»
сражается в соцсетях и в СМИ с Международным валютным фондом за национальную независимость. В польской партии «Право и справедливость» считают, что богатые нации должны помогать экономическому развитию стран Восточной и Центральной Европы, которые пострадали от коммунистических режимов. При этом польские популисты крайне негативно относятся к политике России, тогда как венгерская партия «ФИДЕС» ориентирована на сотрудничество с Москвой и критикует политические решения ЕС [Баранов 2015: 26].
В то же время в Венесуэле адепты «боливарианского социализма» стремятся консолидировать сторонников вокруг идеи борьбы с империализмом и гегемонизмом США за национальный суверенитет [Hawkins 2010].
В настоящее время существуют три взгляда на распространение популистских идей в политике.
Согласно первому из них, популизм является временным побочным эффектом сложного и противоречивого процесса развития либеральной демократии: по мере укрепления институтов демократии будут изжиты и те условия социальной депривации, в которых возникает феномен популизма.
Другой подход трактует современный популизм как издержки переходного периода стран Восточной Европы от тоталитарной политической системы к модели развития общества, представленной западными демократиями.
Наконец, ряд авторов определяют его как особый политический язык современной демократии, являющийся инструментом преодоления социальнополитической асимметрии между органическим целым (народ) и группами правящего меньшинства.
Современная исследовательница Маргарет Канован особое внимание уделяет критике либеральной демократии со стороны правых популистов Западной Европы. Эти правые радикалы, по сути, требуют «прямой демократии» и расширения полномочий «народа», выступая против элитизма и прагматизма либеральных политиков, не способных справиться с современными вызовами западной цивилизации [Canovan 1999].
На первый взгляд, правые популистские движения, подвергая сокрушительной критике либеральную демократию, стремятся к демонтажу существующей политической системы в странах Запада. Поскольку одним из приоритетов западных демократий является глобализация и универсализация ценностей, то правые популисты выступают против коллективного Запада, отождествляя его с глобальной экспансией неолиберальной идеологии. В своем неприятии либерализма популисты ищут союзников за пределами западной демократии1.
Тем не менее по мере усиления позиций популистов в обществе их радикализм претерпевает определенные изменения в сторону смягчения риторики. Это хорошо видно на примере партии «Альтернатива для Германии»: в публичных выступлениях ее лидеров давно не звучат призывы к разрушению существующего миропорядка и европейской солидарности2.
Однако популисты атакуют не только либеральные круги западного истеблишмента – они находят и озвучивают проблемы традиционных социалистических партий и правительств. Главным образом это проблема потери современн ыми «левыми» своего политического лица:
– многие «левые» идеи, такие как социальная справедливость, равноправие, права женщин и меньшинств, оказались инкорпорированными в либеральную повестку;
– вопросы дискриминации, социальных прав и ограничения капиталистической эксплуатации решаются сегодня на глобальном, наднациональном уровне, что лишает левые партии идеологической уникальности;
– дискуссии реформистских сил с неолиберальными политиками о государстве социального инвестирования проходят на фоне очевидной эрозии солидарности рабочего класса и внедрения рыночных механизмов в социальную политику.
Все это служит поводом для популистов говорить о соглашательстве социалистов с неолиберальными силами.
Социалистам непросто вести дискуссии с неолиберальными оппонентами, которые продвигают более внятную идею «бережливого государства» [Giddens 1998], популисты же критикуют как либералов, так и социалистов за неспособность удовлетворить чаяния народа.
Одна из острых тем для стран Южной Европы – инволюция «среднего класса» в прекариат. Данная проблема связана с вопросами бедности, социального одиночества пожилых людей, гендерным неравенством и прочими актуальными язвами постиндустриального мира. Ни правые, ни левые политики из «традиционного» лагеря не предлагают адекватных решений столь важного социального вопроса, чем также пользуются популисты [Tezanos, Luena 2019].
Если обратиться к реалиям Чили, Бразилии, Колумбии и ряда других государств Латинской Америки, то там социально-экономические и политические реформы проходят на фоне перманентного кризиса партийной системы. Для Южной Америки левый популизм остается привычным элементом политического ландшафта: континент захлестывает уже третья волна популизма [Варенцова 2014].
Политики традиционных левых взглядов заняты адаптацией старых идей «третьего пути» к условиям современного динамичного общества. Они ставят перед собой задачу создать эффективную модель социально-политического развития местных обществ, которая служила бы гарантией от новых возможных рецидивов этатизма и милитаризма, с одной стороны, и не поощряла бы социальный паразитизм под маской социальной справедливости – с другой. Однако в настоящее время эта политика не выглядит успешной. Отдельные примеры относительно удачного поиска ответов на актуальные вызовы не являются существенным «смысловым и концептуальным прорывом», но только подтверждают тезис о размывании левой повестки и регионализации стратегических инициатив социалистических правительств [Morel, Palier, Palme 2012].
В таких обстоятельствах популисты с их эклектичной политической повесткой добиваются признания в различных социальных группах.
В тех странах, где популисты участвуют в формировании государственной власти, они используют риторику «воинствующего оптимизма». В частности, в программе крупнейшей партии Венесуэлы – Единой социалистической партии написано: «Мы разработали методологию распределения доходов среди наиболее уязвимых слоев населения на основе принципа социальной справедливости. Согласно индексам человеческого развития (ИЧР), мы уже вышли на средний уровень среди большинства государств на планете.
Венесуэла сегодня выглядит как страна с самым низким уровнем неравенства в л атинской а мерике »1 .
В этом фрагменте из политической программы левой партии государства Латинской Америки столько же популистских деклараций, как и в заявлениях правых радикальных лидеров в Европе. Несмотря на некоторые стилистические различия, можно объединить все популистские партии и сообщества в особую категорию политических субъектов, оказывающих все большее влияние на политические процессы в глобализирующемся мире.
Политический симбиоз современного популизма и СМИ
Современная политика тесно связана с медиа. При этом если мейнстримные СМИ представляют популистов в негативном свете, то радикальные политики стремятся расширить базу своих сторонников с помощью социальных сетей и «новых медиа». Скорость обмена информацией является следствием глобализации, а глобализация, в свою очередь, дала импульс ускоренному формированию всевозможных радикальных движений, поскольку членство в таких сообществах помогает гражданам, которые перешли в оппозицию элите своих стран, сохранить ощущение собственной субъектности через солидарность с политиками, вызывающими у них доверие [Melucci 1989].
Медиатизация политических процессов стала условием формирования современных видов популизма. Соответственно, вне медийной реальности популизм остается сугубо маргинальным явлением. В этом смысле популистские лидеры практически не отличаются от звезд шоу-бизнеса [Митрофанова, Михайленок 2021], собственно, они и ведут себя в информационном пространстве, как эти звезды2.
Таким образом, популистский дискурс настолько компилятивен, насколько справедливы тезисы о замещении социальной реальности медийной повесткой.
Если согласиться с популярной в западной научной литературе точкой зрения, что сегодня в Европе и в ареале влияния европейской культуры утвердился феномен медиадемократии, то логично предположить, что и политическая деятельность трансформируется в набор маркетинговых технологий по управлению целевыми аудиториями и ведению информационных войн [Водак 2018: 45].
Этот факт свидетельствует о росте влияния СМИ в формировании и продвижении политической повестки, которая используется правыми популистами для интерпретации событий в выгодном для себя смысле. Фактически любой политик или партия с невысоким рейтингом имеют шанс ворваться в большую политическую игру, если им удается «засветиться» в крупных и влиятельных СМИ или сконструировать собственную повестку в социальных сетях.
Проще говоря, сегодня не обязательно иметь ясную идеологическую концепцию и серьезную политическую организацию, чтобы участвовать и побеждать в борьбе за власть как на местном, так и национальном уровне.
Достаточно грамотно выстроить медийную стратегию, и шансы на успех резко возрастут. В условиях кризиса смыслов в западных демократиях и усталости избирателей от традиционных партийных машин популистские организации уверенно штурмуют высоты власти. Относительный успех французских популистов на последних выборах в Европарламент в 2024 г. подтверждает данный тезис1.
Саму медийную стратегию, ведущую к политическому успеху, можно представить следующим образом:
-
– дискредитация правящего истеблишмента с помощью скандалов вокруг действий и образа жизни конкретных политических лидеров;
-
– антиэлитистская риторика агрессивна, но «щадит» существующие демократические институты и политическую систему в целом;
-
– конструирование в информационном пространстве образа «спасителя», разоблачающего тайные «антинародные» замыслы правящих элит;
-
– целенаправленное размывание границ между реальностью и вымыслом в формате постправды;
-
– навязывание целевым аудиториям идеи об эффективности «простых» политических решений;
-
– создание политического напряжения в политических сообществах путем агрессивной критики оппонентов и сознательного разрушения политической коммуникации;
– персонализация политики с одновременным использованием приемов, заимствованных из сферы развлечений.
Одним из примеров успешного применения популистской стратегии в реальной политике стала кампания Владимира Зеленского во время президентских выборов на Украине в 2019 г., когда политтехнологический сценарий основывался не на особенностях политической программы кандидата, но включал отсылы к популярному сериалу «Слуга народа», в котором снимался как актер будущий президент страны. Тогда новичок в политике победил с разгромным счетом политического «тяжеловеса» Петра Порошенко. Причинами этой победы являются не только театрализация избирательной кампании и умение работать с СМИ, но и запрос граждан на переформатирование существующей властной элиты, которую обвиняли в коррупции и кумовстве. Образ «простого человека из народа», который не связан коррупционными обязательствами с правящей элитой и готовый служить людям, совпал с ожиданиями украинских избирателей.
Что касается самой информационной стратегии штаба Зеленского, то она не уникальна. На победу Барака Обамы на президентских выборах в США повлиял сериал «24», где рассказывалось о черном кандидате в президенты за шесть лет до участия в кампании Барака Обамы. Во время избирательной кампании Хиллари Клинтон по телевидению показывали сериалы, в которых актрисы играли роли успешных женщин-политиков и управленцев [Жежко-Браун 2019]. Таким образом, мы видим, что популистские технологии активно применяются многими «системными» политиками, входящими в истеблишмент.
В тактических целях популисты убеждают своих сторонников в том, что готовы слушать голоса обычных граждан. Здесь легко увидеть аналогию с лозунгом, популярным в СССР в период перестройки: власть должна повер нуться лиц ом к людям!
В качестве примера популистской риторики возьмем российского лидера ЛДПР Владимира Жириновского. За время своей долгой и успешной политической карьеры этот политик не упускал возможности эпатировать публику с помощью СМИ. При этом он всегда обращался к разным аудиториям с месседжами, которые должны были понравиться разным электоральным группам. Такой риторический прием в случае с Жириновским оказался довольно эффективным. Самое интересное в этом приеме то, что автор не стремился объяснить или сгладить противоречия в своих обещаниях; напротив, Владимир Вольфович всячески подчеркивал их, не смущаясь «неудобными вопросами» со стороны своих идеологических оппонентов1.
Жириновский понимал значение вирусной рекламы собственного имиджа, поэтому часто прибегал к нестандартным методам коммуникации с другими политиками. Достаточно вспомнить известную скандальную сцену, когда он плеснул апельсиновым соком в лицо Бориса Немцова во время дебатов 18 июня 1995 г.2 В дальнейшем этот харизматичный лидер использовал подобные приемы не раз, чтобы поддерживать интерес медиа к собственной персоне.
Эмоциональные публичные высказывания и умение скандализировать традиционных политических оппонентов были характерны и для итальянского лидера Сильвио Берлускони. При всех личностных различиях оба политика успешно использовали СМИ в информационных атаках на соперников. И можно констатировать, что и российский, и итальянский лидеры общественного мнения умели превращать политическую работу в экстравагантные шоу.
Еще один яркий представитель правопопулистского лагеря лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен умело использует патриотическую риторику в духе Дональда Трампа: «Франция вернется в европейскую политику», но, как заметили журналисты, активно использует и символические предупреждения в адрес своих оппонентов. Так, после относительно неудачного для нее результата второго тура выборов в Национальное собрание республики 2024 г., политик появилась на публике в декольте и короткой юбке, что было истолковано как «заявление» о том, что ее партия продолжит «гнуть свою линию», не считаясь с авторитетами из истеблиш-мента3.
Определенное сходство в риторике между разными политиками и различными радикальными политическими организациями на разных континентах не является свидетельством их происхождения из общего идеологического корня. Популизм западного толка появился на мировой арене в результате обострившейся политической конкуренции, в которой «старые» партии не могут предложить гражданам никаких новых смыслов и идей, отражающих современное состояние общества. В некотором роде популизм на Западе – это реакция на затянувшийся кризис либеральной демократии, которая выразила претензию на универсальность и, как мы видим сегодня, не справ- ляется с этой миссией. После недолгого триумфа либерального оптимизма начала 1990-х, когда провозглашалась утопия «конца истории» [Фукуяма 1990], наступили времена поиска адекватных ответов на новые вызовы как политического характера, так и экологического.
Коллективный Запад переживает системный кризис, а прежняя модель международной безопасности требует переосмысления. Глубокий конфликт между странами западной демократии и Российской Федерацией является результатом внешнеполитических ошибок западного истеблишмента и следствием этого кризиса. В этих условиях образовавшийся вакуум власти пытаются заполнить современные популисты.
На постсоветском пространстве политики, которых условно называют популистами, сформировались в совершенно иной социокультурной среде, чем их европейские и американские «коллеги». В России фактором роста популизма является не политическая конкуренция, а сохранение советской политической инерции и, возможно, патерналистских установок в общественном сознании1.
Быстрые социальные изменения и трудности в планировании будущего вызывают коллективное психологическое отторжение западных ценностей и демократических институтов в массовых аудиториях. В поисках надежной опоры граждане обращаются к традиционным ценностям, а элиты пытаются переформатировать историю своих народов для решения текущих политических задач. Потребность в «простых» ответах на сложные вопросы объединяет граждан и элитные группы на постсоветском пространстве.
Заключение
Современный популизм сформировался в условиях затянувшегося структурного кризиса классических институтов западной либеральной демократии – с ее элитизмом, сложными бюрократическими процедурами и неспособностью производить новые смыслы в политике.
Сам феномен популизма можно анализировать в контексте информационных войн и гибридной политики, когда основным инструментом политического противоборства выступают медиаресурсы. В известном смысле популизм является продуктом информационного общества, поэтому возникают методологические трудности с его определением. Этический релятивизм эпохи «постправды», персонализация актуальной политической повестки, стремление современных политиков коммуницировать с гражданами на языке «улицы», театрализация политических акций и эклектичность партийных программ обеспечивают успех популистов в государствах с различными типами культуры и социально-экономического уклада.
С другой стороны, представляется неверным изображать проблему так, будто граждане действуют импульсивно, соблазненные умелыми манипуляторами. В большинстве стран, где популисты имеют определенный успех, отмечается рост недовольства политикой, проводимой в течение десятилетий правящей элитой, состоящей из профессиональных политиков. Запрос на перемены со стороны граждан выражается в голосовании за политиков, декларирующих готовность слушать «простых людей» и ограничить финансовые и политические аппетиты элитных кругов.
Популизм является одновременно идеологией амбивалентного типа (не левые, не правые, но лево-правые), гибкой формой политической организации с акцентом на проблемы местных сообществ и сетевой структурой, набором современных политтехнологических методов воздействия на целевые аудитории с использованием цифровых ресурсов и приемов шоу-бизнеса. Как продукт информационного общества, популистские методы широко используются большинством современных политиков, в т.ч. и «системных».
Уникальность феномена популизма, по нашему мнению, объясняется способностью ряда маргинальных политиков играть на проблемах глобальных элит и демонизацией праворадикальных партий в западных мейнстримных СМИ.
В то же время представители мировых элит успешно интегрируют популистские методы коммуникации с электоратом в свою политическую повестку и пытаются заигрывать с наиболее харизматичными лидерами популистов. Радикальная критика пороков современной демократии помогает системным политикам и государственным деятелям совершенствовать свою риторику и активнее использовать популизм в качестве еще одного инструмента в информационных войнах за мировое лидерство.
Список литературы Современный популизм как феномен информационного общества
- Агеев В. 1990. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М.: Изд-во МГУ. 240 с.
- Андерсон Б. 2001. Воображаемые сообщества. М.: Кучково поле. 277 с.
- Баранов Н. 2015. Возрождение популизма: европейский опыт и российские практики. - Вестник СПбГУ. Сер. 6. Вып. 3. С. 25-36.
- Бауман З., Донскис Л. 2019. Текучее зло. М.: Издательство Ивана Лимбаха. 296 с.
- Варенцова О. 2014. Три волны популизма в Латинской Америке. - Вестник МГИМО-Университета. № 6(39). С. 153-160.
- Водак Р. 2018. Политика страха. Харьков. 404 с.
- Генон Р. 1991. Кризис современного мира. М.: Арктогея. 265с.
- Гриднева А. 2022. Партия Йоббик: создание, электорат, проблемы и перспективы. - Вышеградская Европа. № 2. С. 84-97.
- Де Бьюс Ж. 2009. Истина о и в аудиторной демократии: модель Бернара Манена о политическом информационном взаимодействии в высокоразвитых демократиях. - Прогнозис. № 3-4 (19). С. 195-233.
- Жежко-Браун И. 2019. Сериал «Слуга народа» как политтехнологический сценарий президентской кампании Зеленского. - Идеи и идеалы. Т. 11. № 3. Ч. 1. С. 94-122.
- Кара-Мурза С. 2014. Национализм как идеология. - Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. № 1. С. 6-13.
- Митрофанова А., Михайленок О. 2021. Правопопулистские гражданские движения: западный опыт и российская ситуация. - Мировая экономика и международные отношения. Т. 65. № 3. С. 120-129.
- Мюллер Я.-В. 2018. Что такое популизм?М.: ИД ВШЭ. 144 с.
- Осколков П.В., Тэвдой-Бурмули А.И. 2018. Европейский правый популизм и национализм: к вопросу о соотношении функционала. - Вестник Пермского университета. Сер. Политология. № 3. С. 19-33.
- Погорельская С.В. 2004. Введение. Методологические проблемы исследования правого радикализма. - Правый радикализм в современной Европе: сборник научных трудов. М.: Изд-во ИНИОН РАН. С. 6-15.
- Фукуяма Ф. 1990. Конец истории и последний человек. М.: Свободная пресса. 418 с.
- Шеин С.А., Аликин А.А. 2022. Вызовы популизма и консервативного национализма. - Вестник РУДН. Сер. Политология. Т. 24. № 2. С. 200-220.
- Эвола Ю. 2016. Восстание против современного мира. М.: Прометей. 476 с.
- Albertazzi D., McDonnell D. 2008. Introduction: The Sceptre and the Spectre. -Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European Democracy (ed. by D. Albertazzi, D. McDonnell). N.Y:Palgrave Macmillan. P. 1-11.
- Arditi B. 2007. Politics on the Edges of Liberalism: Difference, Populism, Revolution, Agitation. Edinburgh University Press. 176 p.
- Armstrong J. 1982. Nations before Nationalism. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press. 447 p.
- Aslanidis P. 2018. Populism as a Collective Action Master Frame for Transnational Mobilization. - Sociological Forum. Vol. 33. No. 2. P. 443-464.
- Canovan M. 1999. Trust the People: Populism and the Two Faces of Democracy. -Political Studies. Vol. 47. No. 2. P. 3-5.
- Chryssogelos A. 2017. Populism in Foreign Policy. - Oxford Research Encyclopedias, Politics. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.467.
- Giddens A. 1998. The Third Way. Cambridge: Polity Press. 85 p.
- Hawkins K. A. 2010. Venezuela's Chavismo and Populism in Comparative Perspective. N. Y: Cambridge University Press. 265 p.
- Laclau E. 2005. On Populist Reason. London: Verso. 276 p.
- Melucci A. 1989. Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society. L.: Hutchinson Radius. 288 p.
- Morel N., Palier B., Palme J. 2012. Social Investment: a Paradigm in Search ofa New Economic Model and Political Mobilisation'. - Towards a Social Investment Welfare State?Ideas, Policies and Challenges (ed. by N. Morel, B. Palier, J.Palme). Bristol: Policy Press. 353-376 p.
- Ostiguy P. 2009. The High and the Low in Politics: A Two-Dimensional Political Space for Comparative Analysis and Electoral Studies. University of Notre Dame Press. https://doi.org/10.7274/26126035.v1.
- Tezanos J. F., Luena C. 2019. Partidos políticos, democracia y cambio social. -Revista Española de Investigaciones Sociológicas. № 165. P. 159-174.
- Wodak R., Khosravinik M. 2013. Dynamics of Discourse and Politics in Right-wing Populism in Europe and beyond: An Introduction. - Right-Wing Populism in Europe: Politics and Discourse. London, N.Y: Bloomsbury. P. xvii-xxviii.