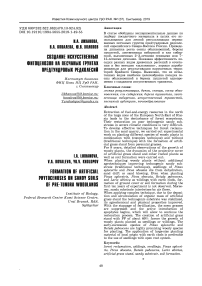Создание искусственных фитоценозов на песчаных грунтах предтундровых редколесий
Автор: Лиханова И.А., Ковалева В.А., Холопов Ю.В.
Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc
Рубрика: Биологические науки
Статья в выпуске: 1 (37), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье обобщены экспериментальные данные по подбору посадочного материала в целях его использования для лесной рекультивации перевиваемых песчаных грунтов предтундровых редколесий европейского Северо-Востока России. Приведена динамика роста сосны обыкновенной, березы пушистой, лиственницы сибирской и ели сибирской, высаженных 2-3-летними сеянцами или 7- 15-летними дичками. Показана эффективность посадки разных видов древесных растений в сочетании и без методом «залужения», хорошо апробированным для рекультивации нарушенных территорий Крайнего Севера. Выявлено, что из испытанных видов наиболее целесообразна посадка сосны обыкновенной и березы пушистой одновременно с созданием искусственного травостоя.
Лесная рекультивация, дички, сеянцы, сосна обыкновенная, ель сибирская, береза пушистая, лиственница сибирская, искусственный травостой, песчаный субстрат, почвообразование
Короткий адрес: https://sciup.org/149128825
IDR: 149128825 | УДК: 630*232:622.882(470.13-924.82) | DOI: 10.19110/1994-5655-2019-1-49-55
Текст научной статьи Создание искусственных фитоценозов на песчаных грунтах предтундровых редколесий
На севере таежной зоны России площадь нарушенных земель неуклонно увеличивается. Самовосстановление лесных экосистем усложнено в связи с неблагоприятными субстратными условиями техногенных местообитаний, суровыми климатическими условиями, низкой устойчивостью древесных пород на северной границе их распространения [1]. В связи с отмеченным, необходима активизация сукцессионного процесса. Восстановление устойчивых лесных экосистем представляет собой систему сложных технологических мероприятий, обусловленную в значительной мере природноклиматическими условиями конкретного региона [2]. Приемы лесной рекультивации, разработанные для более южных регионов России, как правило, включают нанесение снятого почвенного слоя, посадку лесных культур, применение удобрений, выращивание в междурядьях люпина, донника, люцерны, клевера [3]. На Крайнем Севере из-за незначительной мощности и растительного состава плодородного мохово-торфянистого слоя его снятие обычно не практикуется [4]. Люпин, донник, люцерна не входят в местные флоры региона, они встречаются либо как заносные, либо культивируемые виды.
Разработка технологий лесорекультивационных работ для условий Севера начата только в 80-х гг. ХХ в. Л.П. Капелькиной [5], В.И. Парфенюком [6] описаны первые опыты по созданию лесных культур на нарушенных землях европейской части России. Они заключались в отработке традиционного приема лесной рекультивации – посадке лесных культур сосны и ели, а также черенков ивы без дополнительных приемов улучшения техногенного субстрата. Однако данная технология лесорекультивационных работ малоэффективна в целях защиты нарушенных земель от эрозии. Н.Г. Федорец и др. [7] и Л.А. Казаков и др. [8] описали комплексные работы по лесной рекультивации на севере таежной зоны. Для улучшения свойств субстрата применены: нанесение потенциально-плодородных грунтов, внесение удобрений, посев люпина [7]. Для закрепления перевиваемых песков Кольского полуострова созданы травостои колосняка песчаного [8]. В качестве посадочного материала исследователи используют сеянцы, саженцы, дички сосны обыкновенной и лапландской, ели сибирской, карельской березы, березы повислой, рябины [7–9]. В Норильском промышленном регионе имеется опыт посадки дичков местных популяций ели сибирской, лиственницы сибирской, розы иглистой, можжевельника сибирского и черенков разных видов ив [10]. Цель нашей работы – произвести подбор ассортимента древесных растений и определить возможный способ улучшения субстрата для проведения лесной рекультивации в природных условиях Крайнего Севера европейского Северо-Востока.
Материал и методы исследования
Экспериментальные работы проведены на территории Усинского района Республики Коми (подзона крайнесеверной тайги). Среднегодовая темпе- ратура воздуха минус 3,2 °С. Рельеф представляет пологоувалистую равнину с высотами 60–100 м над ур. м. На водоразделах господствуют разреженные еловые и елово-березовые леса. Небольшими массивами располагаются сосняки. Сомкнутость крон 0,3–0,5, высота 8–15 м, бонитет – преимущественно Vа [11].
Основные типы нарушений связаны с добычей и транспортировкой нефти. Характерны отсыпки песчаным грунтом дорог, различных промышленных площадок, в том числе под кусты скважин, временные жилые комплексы и т.д. Рекультивация нефтезагрязненных участков также часто сопровождается нанесением песка мощностью 50–100 см. Необходимость строительных материалов обуславливает эксплуатацию значительного числа песчаных карьеров.
Полевой опыт по разработке приемов лесной рекультивации заложен в 2006 г. на отработанном карьере (66°16′ с.ш., 57°16′ в.д.). До начала антропогенного воздействия на его территории произрастал березово-еловый бруснично-зеленомошный лес с примесью сосны и лиственницы на подзоле иллювиально-железистом. В ассортимент видов для проведения лесной рекультивации были включены: сосна обыкновенная, ель сибирская, береза пушистая, лиственница сибирская. В качестве посадочного материала использовались: 1) 7–15-летние дички древесных видов высотой 40–70 см, изъятые на сильно нарушенных краевых участках близлежащего леса с комом земли 30х30 см и фрагментами напочвенного покрова; 2) 2–3-летние сеянцы древесных видов с открытой корневой системой, полученные из Удорского лесхоза. Размещение дичков – 2х2 м, сеянцев – 2х1 м. Посадки древесных растений проведены без улучшения и с улучшением техногенного субстрата биологическим способом (формирование искусственного травостоя из многолетних луговых злаков). В вариантах опыта с созданием травостоя одновременно с посадкой древесных растений высевали травосмесь из мятлика лугового, овсяниц красной и луговой, костреца безостого, тимофеевки луговой в равных соотношениях при норме высева семян 20 кг/га. Посев трав осуществляли поверхностно с последующим прикатыванием. Одновременно вносили комплексное минеральное удобрение (азофоска из расчета 60 кг д.в./га по азоту, фосфору и калию) и лесную подстилку в дозе 3 т/га. Система ухода за травами включала весеннее внесение минеральных подкормок (N45 или N45Р45К45) на второй-пятый годы, а также подсев трав в местах выдува семян на второй год. В контрольном варианте никаких рекультивационных мероприятий не проводили.
Ежегодно за период наблюдений в вариантах опыта оценивали динамику высоты посадок древесных пород [12] и их фитопатологическое состояние [13], определяли проективное покрытие и среднюю высоту травостоя [14]. В образцах почвогрунтов вычисляли рН водной вытяжки потенциометрически, содержание органического углерода и азота методом газовой хроматографии. Количество подвижных форм соединений калия и фосфора, уста- новленных по методу Кирсанова, дано в пересчете на их оксиды [15]. Названия почв приведены в соответствии с «Классификацией и диагностикой почв России» [16]. Численность почвенных микроорганизмов учитывали методом разведения почвенной суспензии с последующим высевом ее на стандартные питательные среды, микроорганизмов-аммонификаторов – на среде МПА (мясо-пептонный агар), минерализаторов азота – на КАА (крахмало-аммиачный агар), олиготрофов – на голодном агаре, олигонитрофилов – на среде Эшби, грибов – на подкисленной среде Чапека [17]. Численность микроорганизмов выражена в колониеобразующих единицах на грамм абсолютно сухой почвы (КОЕ/ г а.c.п.) с учетом ошибки средней.
Результаты и обсуждение
Растительный покров на отведенной под опыт территории отсутствовал. Песчаный субстрат легко перевивался под действием воздушных потоков. Содержание частиц мелкого песка – 80%, крупного – 10–11%, физической глины – 5–7%. Верхний 10-сантиметровый слой субстрата отличался низкой полевой влажностью (3–4%). Содержание в нем органического углерода (менее 0,1%), азота (менее 0,01%), подвижных форм фосфора (8,7–10,1 мг/100 г в.с.п.) и калия (2,2–3,2 мг/100 г в.с.п.) низкое, величина рН близка к нейтральной. В условиях дефицита питательных элементов, низкого содержания почвенного органического вещества и отсутствия растительного покрова доминирующее положение в почвенном микробоценозе занимали олиготрофные и олигонитрофильные бактерии – 1957,2±56,8 и 1642,0±111,0 тыс. КОЕ/г а.с.п., соответственно. Численность аммонифицирующих бактерий и бактерий, утилизирующих минеральные формы азотистых соединений, в 1,5–2,0 раза ниже (соответственно 1091,2±104,9 и 942,0±88,9 тыс. КОЕ/г а.с.п). Микроскопические грибы не выделены.
На контрольном участке в связи подвижностью и сухостью песка за девятилетний период наблюдений внедрения растений не происходило, агрохимические показатели и микробиологические характеристики субстрата не изменились. Наши данные подтвердили сведения о достаточно медленном протекании первичных сукцессий на кварцевых песках Крайнего Севера, когда их закрепление водорослевой корочкой, пионерными мхами и сосудистыми растениями растягивается на период нескольких десятилетий [18].
Посадка древесных растений в песчаный субстрат без приемов его улучшения позволила сформировать культуры древесных пород разного качества. Растения сосны, высаженные сеянцами, к концу опыта практически все погибли (табл. 1). Ель имела лучшую сохранность, несмотря на несоответствие эдафических условий потребностям вида, что согласуется с данными, полученными Л.П. Капель-киной [9]. В условиях Крайнего Севера ель биологически более устойчива, чем сосна. Основные причины гибели высаженных сеянцев – погребение песком или их выдувание в результате ветровой эрозии, физиологическое иссушение. Значительный отпад сосны был обусловлен также ее заражением грибами Phacidium infestans Karst и Lophodermium sedi-tiosum Mint. (распространенность болезней типа шютте варьировала по годам наблюдений от 20 до 40%). Темпы роста деревьев – низкие (табл. 2).
Посадки дичков сосны и березы характеризовались высокой сохранностью (табл. 1). Крупномерный посадочный материал данных видов быстро адаптировался к новым условиям среды, оказался устойчив к прессу абиогенных и биогенных факторов. Прирост в высоту у сосны с третьего года после посадки неуклонно увеличивался, достигая более 30 см к концу наблюдений (табл. 3). В связи с экологической пластичностью темпы роста березы в начале опыта были выше, чем у сосны, но к концу
Таблица 1
Динамика приживаемости/сохранности (% от общего количества сеянцев/дичков) культур в вариантах опыта
Dynamics of survival/preservation (% of the total number of seedlings/ wildings) of cultures in variants of the experiment
Table 1
|
Способ улучшения субстрата |
Вид |
Годы опыта |
||||||
|
2-й |
3-й |
4-й |
5-й |
6-й |
7-й |
8-й |
||
|
Сеянцы |
||||||||
|
Без улучшения |
Сосна обыкновенная |
85 |
83 |
54 |
54 |
27 |
27 |
12 |
|
Биологический |
78 |
67 |
49 |
45 |
42 |
42 |
42 |
|
|
Без улучшения |
Ель сибирская |
94 |
92 |
91 |
91 |
80 |
56 |
56 |
|
Биологический |
96 |
96 |
93 |
83 |
83 |
83 |
83 |
|
|
Дички |
||||||||
|
Без улучшения |
Сосна обыкновенная |
100 |
100 |
96 |
92 |
92 |
92 |
92 |
|
Биологический |
100 |
100 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
|
|
Без улучшения |
Береза |
100 |
100 |
100 |
100 |
94 |
94 |
94 |
|
Биологический |
пушистая |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Без улучшения |
Ель сибирская |
100 |
80 |
78 |
68 |
64 |
53 |
53 |
|
Биологический |
Лиственница сибирская |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
92 |
83 |
Таблица 2
Динамика высоты культур в вариантах опытов с посадкой сеянцев
Dynamics of height of cultures in variants of experiments with planting seedlings
Table 2
|
Способ улучшения субстрата |
Вид |
Годы опыта |
|||||||
|
1-й |
2-й |
3-й |
4-й |
5-й |
6-й |
7-й |
8-й |
||
|
Без улучшения |
Сосна |
4,3±0,3 |
5,6±0,5 |
9,9±1,1 |
14,5±2,1 |
18,6±3,1 |
22,4±3,2 |
28,0±5,7 |
31,8±10,1 |
|
Биологический |
обыкновенная |
4,3±0,3 |
6,3±0,6 |
10,1±0,8 |
17,7±2,5 |
22,4±3,2 |
28,9±5,0 |
38,9±5,6 |
50,3±7,5 |
|
Без улучшения |
Ель сибирская |
11,5±1,2 |
12,0±1,3 |
12,9±1,8 |
13,2±1,8 |
14,8±3,0 |
18,7±3,6 |
19,8±2,1 |
Не опр. |
|
Биологический |
10,6±1,2 |
10,8±1,2 |
12,6±2,0 |
18,0±2,0 |
20,7±3,1 |
25,5±3,3 |
27,5±3,5 |
27,9±4,2 |
|
Примечание: Приведены средние арифметические значения и доверительные интервалы при р = 0,05. Note: Arithmetic mean values and confidence intervals at р=0,05.
Таблица 3
Динамика высоты культур в вариантах опытов с посадкой дичков
Dynamics of height of cultures in variants of experiments with planting wildings
Table 3
|
Способ улучшения субстрата |
Вид |
Годы опыта |
||||||||
|
1-й |
2-й |
3-й |
4-й |
5-й |
6-й |
7-й |
8-й |
9-й |
||
|
Без улучшения |
Сосна обыкновенная |
65,6±5,8 |
67,6±4,9 |
77,0±5,9 |
87,7±5,9 |
97,8±7,4 |
112,2±10,2 |
130,2±12,7 |
149,6±14,2 |
180,1±18,8 |
|
Биологический |
59,8±5,3 |
60,9±5,8 |
69,0±6,6 |
79,7±6,1 |
96,7±9,1 |
116,4±10,7 |
136,6±12,9 |
161,1±17,0 |
195,5±16,8 |
|
|
Без улучшения |
Береза пушистая |
60,0±7,2 |
78±8,5 |
90,0±8,9 |
110,0±10,7 |
115,0±11,2 |
120,0±12,0 |
125,0±12,6 |
138±13,1 |
149,0±18,1 |
|
Биологический |
60,0±7,0 |
80,7±8,3 |
95,4±9,2 |
116,2±10,3 |
125,0±12,6 |
128,2±14,2 |
147,1±14,8 |
152,6±16,8 |
163,7±13,3 |
|
|
Без улучшения |
Ель сибирская |
55,3±6,4 |
55,5±6,4 |
56,5±6,6 |
56,9±7,2 |
57,7±7,7 |
59,1±8,3 |
59,9±8,1 |
60,5±9,1 |
60,9±9,0 |
|
Биологический |
Лиственница сибирская |
79,4±9,2 |
82,6±10,6 |
86,9±10,2 |
90,7±9,6 |
98,7±17,4 |
106,2±22,8 |
122,0±26,3 |
147,5±28,7 |
156,4±32,1 |
Примечание: Приведены средние арифметические значения и доверительные интервалы при р = 0,05.
Note: Arithmetic mean values and confidence intervals at р=0,05.
наблюдений приросты в высоту несколько снижаются, что соответствует её меньшей приспособленности к росту на песчаных грунтах. Ель, по сравнению с березой и сосной, более тяжело перенесла пересадку и процесс приспособления к новым условиям среды. На 9-й год опыта сохранилась только половина из высаженных растений ели. О низкой приживаемости дичков ели указывается и в работе В.Б.Ларина [19]. Годовые приросты в высоту не превышали 2 см. Отмечена сильная дехромация хвои. Посадка дичков лиственницы более успешна, чем ели (табл. 1, 3). Однако около четверти сохранившихся растений находятся в неудовлетворительном состоянии и возможен их отпад.
Древесные растения в течение рассматриваемого периода не смогли способствовать развитию напочвенного растительного покрова. Зафиксировано внедрение только единичных пионерных и ксерофильных видов (Equisetum arvense L., Сha-maenerion angustifolium (L.) Scop, Festuca ovina L.). На комьях земли, привнесенных при посадке дичков, сохранились кустарнички (Empetrum hermaph-roditum (Lange) Hagerup, Vaccinium uliginosum L., V. vitis-idaea L.). Песчаный субстрат остается незакрепленным и подвергается развеиванию. Опад древесных пород сносится на окружающие территории. В связи с крайне незначительным поступлением органического материала в песчаный грунт его морфологические, агрохимические свойства не менялись. Численность олиготрофов, олигонитрофилов и микроорганизмов азотного цикла сохранялась на прежнем уровне. Однако отмечено появление поч- венных микромицетов (40,0±2,1 тыс. КОЕ/г а.с.п.), что, возможно, связано с посадкой древесных растений и развитием эктомикоризы.
В вариантах опыта с применением биологического способа улучшения песчаного субстрата сохранность древесных пород, высаженных сеянцами, увеличивается, что, по-видимому, связано с уменьшением неблагоприятного влияния абиотических факторов в связи созданием фитосреды и закреплением субстрата за счет развития искусственного травостоя. По мере роста высаженных сеянцев наблюдается усиление дифференциации высоты культур между вариантами опыта без и с применением биологического способа улучшения субстрата (табл. 2). Темпы роста деревьев во втором случае возрастают и становятся сопоставимыми с ходом роста культур на северотаежных вырубках [19, 20]. Рост дичков сосны и березы в вариантах с посевом трав тоже ускоряется. Однако влияние искусственного травостоя на их приживаемость и рост выражено слабее, чем на посадки сеянцев (табл. 3), по-видимому, из-за меньшего влияния абиотических факторов на крупномерный посадочный материал.
Неблагоприятные свойства песчаного грунта определили особенности развития искусственного травостоя. Перенос песка, выдувание и сдувание семян и удобрений, иссушение субстрата в первый год опыта обусловили низкое проективное покрытие злаков (10%). В последующий период ухода проективное покрытие трав последовательно возрастало, достигнув максимума на пятый год опыта (около 60%). Доминировал наиболее засухоустой- чивый из высеянных видов – овсяница красная. Создание травостоя на сухих песчаных субстратах – достаточно длительный процесс, требующий многолетнего периода ухода за травостоем (внесение минеральных подкормок). С прекращением внесения удобрений проективное покрытие высеянных трав стало быстро сокращаться и к концу наблюдений составило всего 10–15%. Сходное развитие искусственных травостоев отмечено на нефелиновых песках Кольского полуострова [21].
Деградация травостоя сопровождалась процессом замещения высеянных луговых трав на более сухолюбивые злаки ( Festuca ovina , Calamagro-stis epigeios (L.), Agrostis tenuis Sibth.), пионерные виды сосудистых растений ( Equisetum arvense, Сha-maenerion angustifolium и др.) и мхов ( Ceratodon pur-pureus (Hedw.) Brid. и Polytrichum piliferum Hedw.). Особенно активно шло формирование мохового яруса, проективное покрытие которого к концу наблюдений достигло 70 %. Таким образом, произошла закономерная смена стадии доминирования высеянных трав (поддерживаемой внесением удобрений) на стадию внедрения видов из окружающих растительных сообществ [22].
Включение отмершей органической массы искусственного травостоя в процессы трансформации и гумусообразования способствовало формированию слаборазвитого гумусового горизонта W, характерного для псаммоземов гумусовых типичных. В гумусово-слаборазвитом горизонте и залегающем под ним корнеобитаемом слое (глубина 5–10 см от поверхности формирующейся почвы) аккумулируются элементы-биогены и органические соединения. За период наблюдений содержание органического углерода увеличилось до 0,2%, азота – до 0,002%, подвижных форм фосфора и калия – до 19,7 и 12,9 мг/100г в.с.п., соответственно. Численность всех физиологических групп микроорганизмов в верхнем гумусово-слаборазвитом слое по сравнению с исходным субстратом возросла примерно в четыре–шесть раз. Численность аммонификаторов достигла 6805,3±198,1, минерализаторов азота – 7074,0±415,2, олиготрофов – 6468±191, олигонитрофилов – 7883±252, почвенных грибов – 310,3± 42,8 тыс. КОЕ/г а.с.п. Отмечено прекращение эрозионных процессов, полевая влажность почв характеризуется величинами порядка 6–14%.
Метод «залужения» нарушенных земель достаточно хорошо апробирован для территории Крайнего Севера. Подобраны ассортименты трав, системы удобрений [21, 23–25 и др.]. Нашими исследованиями не только еще раз продемонстрирована эффективность метода для закрепления субстрата и улучшения его свойств, но и показана целесообразность сочетания посадки древесных растений с созданием травостоя из многолетних луговых злаков. Система ухода за луговыми злаками должна обеспечить формирование травостоя в той мере улучшающего свойства субстрата (за счет накопления отмершей органической массы растений), в какой это необходимо для образования напочвенного покрова из внедрившихся видов для дальней- шей стабилизации песчаного грунта и протекания почвообразовательных процессов.
Заключение
В целях лесной рекультивации на песчаных грунтах севера таежной зоны рекомендуется использовать посадку пионерных (раннесукцессионных) видов – сосны обыкновенной, березы пушистой. Наиболее быстрыми темпами формирование древесного яруса происходит при использовании крупномерного посадочного материала местного происхождения с комом земли. Для большей устойчивости экосистемы рекомендуется порядное смешение сосны и березы. Возможно включение в посадку лиственницы сибирской и ели сибирской. Создание лесных культур необходимо сочетать с приемами улучшения техногенного субстрата, обеспечивающими его закрепление, формирование напочвенного покрова и запуск почвообразовательных процессов.
Работа выполнена в рамках темы государственного задания Института биологии Коми НЦ УрО РАН.
Список литературы Создание искусственных фитоценозов на песчаных грунтах предтундровых редколесий
- Лиханова И.А., Арчегова И.Б., Хабибуллина Ф.М. Восстановление лесных экосистем на техногенно нарушенных территориях Севера. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. 104 с
- Анцукевич О.Н. Экологическое обоснование лесовыращивания. Вильнюс: ЛитНИИЛХ, 1979. 68 с
- Хватов Ю.А. Облесение земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых. М.: ЦБНТИлесхоз, 1973. 56 с
- Рекультивация земель на Севере. Вып.1. Рекомендации по рекультивации земель на Крайнем Севере/Отв. ред. И.Б.Арчегова. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 1997. 34 с
- Капелькина Л.П. Естественное и искусственное лесовозобновление на нарушенных землях Севера // Лесной журнал. 1983. № 1. С. 21-24
- Парфенюк В.И. Лесная рекультивация нарушенных земель в зоне крайнесеверной тайги Коми АССР // Освоение Севера и проблемы рекультивации: Матер. междунар. конф. Сыктывкар, 1991. С. 155-156
- Формирование лесных сообществ на техногенных землях северо-запада таежной зоны России/Н.Г.Федорец, А.И.Соколов, А.М.Крышень, М.В.Медведева, Е.Э.Костина. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 2011. 130 с
- Казаков Л.А., Вишняков Г.В., Чамин В.А. Лесомелиорация Кузоменских песков // Вестник Кольского научного центра РАН. 2011. № 2. С. 58-63
- Капелькина Л.П. Экологические аспекты оптимизации техногенных ландшафтов. СПб.: Наука ПРОПО, 1993. 190 с
- Вараксин Г.С., Кузнецова Г.В., Евграфова С.Ю., Шапченкова О.А. Опыт биологической рекультивации техногенных ландшафтов в Норильском промышленном районе // Сибирский экологический журнал. 2014. № 6. С. 1039-1047
- Семенов Б.А., Цветков В.Ф., Чибисов Г.А., Елизаров Ф.П. Притундровые леса европейской части России. Архангельск: СевНИИЛХ, 1998. 332 с
- Огиевский В.В., Хиров В.В. Обследование и исследование лесных культур. М.: Лесн. пром-сть, 1964. 50 с
- Соколова Э.С., Ведерников Н.М. Указания по диагностике болезней хвойных пород в питомниках и молодняках. М.: Минлесхоз РСФСР, 1988. 77 с
- Методы изучения лесных сообществ / Отв. ред. В.Т. Ярмишко, И.В. Лянгузова. СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002. 240 с
- Теория и практика химического анализа почв / Отв. ред. Л.А. Воробьева. М.: ГЕОС, 2006. 400 с
- Классификация и диагностика почв России/ Отв. ред. Г.В.Добровольский. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с
- Методы почвенной микробиологии и биохимии / Отв. ред. Д.Г. Звягинцев. М.: Изд-во МГУ, 1991. 304 с
- Экологические основы восстановления экосистем на Севере / Отв. ред. И.Б. Арчегова. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. 80 с
- Ларин В.Б. Культуры ели и кедра сибирского на Северо-Востоке европейской части СССР. Л.: Наука, 1980. 224 с
- Ларин В.Б., Паутов Ю.А. Формирование хвойных молодняков на вырубках Северо- Востока европейской части СССР. Л.: Наука, 1989. 144 с
- Подлесная Н.И., Переверзев В.Н. Биологическая рекультивация промышленных отвалов на Крайнем Севере. Апатиты: Кольский филиал АН СССР, 1986. 106 с
- Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Современное состояние основных концепций науки о растительности. Уфа: Гилем, 2012. 488 с
- Рождественский Ю.Ф., Сарапульцев И.Е. Результаты опытов по испытанию растений для рекультивации земель на полуострове Ямал// Журн. Экология. 1997. № 5. С. 348- 352
- Турубанова Л.П., Лиханова И.А. Динамика растительности на посттехногенных территориях Усинского района Республики Коми при посеве разных видов многолетних трав// Сибирский экологический журнал. 2013. №2. С. 223-233
- Миронова С.И. Растительные сукцессии на природно-техногенных ландшафтах Западной Ярутии и их оптимизация. М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2016. 140 с