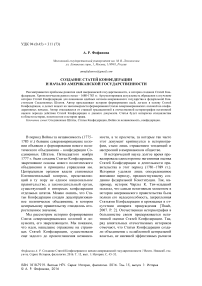Создание статей конфедерации и начало американской государственности
Автор: Фофанова Анна Романовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 1 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются проблемы развития идей американской государственности, и история создания Статей Конфедерации. Хронологические рамки статьи - 1680-1783 гг. Аргументирована актуальность обращения к изучению истории Статей Конфедерации для понимания идейных истоков американского государства и федеральной Конституции Соединенных Штатов. Автор прослеживает историю формирования идей, легших в основу Статей Конфедерации, и делает акцент на закономерности формирования Союза североамериканских колоний на конфедеративных началах. Автор отказывается от ставшей традиционной в отечественной историографии негативной оценки периода действия Статей Конфедерации и данного документа. Статья будет интересна специалистам в области истории, политологии и истории права.
Соединенные штаты, статьи конфедерации, война за независимость, конфедерация
Короткий адрес: https://sciup.org/147219486
IDR: 147219486 | УДК: 94
Текст научной статьи Создание статей конфедерации и начало американской государственности
В период Войны за независимость (1775– 1783 гг.) бывшие североамериканские колонии объявили о формировании нового политического объединения – конфедерации Соединенных Штатов. Пятнадцатого ноября 1777 г. были созданы Статьи Конфедерации, закрепившие основы нового политического объединения и принципы управления им. Центральным органом власти становился Континентальный конгресс, представляющий в ту пору не единое национальное правительство, а законодательный орган, существующий в интересах конфедерации отдельных штатов. Можно сказать, что Статьи Конфедерации создали децентрализованное политическое объединение, в котором центральному правительству отводилось второстепенное значение.
Мы рассмотрим историю формирования Союза североамериканских колоний и документа, его закрепляющего. Мы покажем, что идеи, нашедшие отражение на страницах Статей Конфедерации, существовали еще задолго до провозглашения независи- мости, а те просчеты, за которые так часто этот документ критикуется в историографии, стали лишь отражением тенденций и настроений в американском обществе.
В исторической науке долгое время превалировала односторонне негативная оценка Статей Конфедерации и деятельности правительства в этот период (1781–1789 гг.). Историки уделяли лишь опосредованное внимание периоду, предшествующему созданию федеральной Конституции. Так, например, историк Чарльз К. Тач-младший полагал, что самым негативным моментом в истории американского правительства была полная его недееспособность, закрепленная Статьями Конфедерации и кроющаяся в отсутствии аппарата принуждения [Thach, 2007. P. 2]. Отечественная историография в большинстве своем придерживается негативной оценки Статей Конфедерации. Так, ряд влиятельных отечественных историков отмечают, что Статьи Конфедерации создали объединение с ослабленной центральной властью, не имевшей эффективных рычагов
Фофанова А. Р. Создание Статей Конфедерации и начало американской государственности // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, вып. 1: История. С. 45–53.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2016. Том 15, выпуск 1: История
управления страной [Болховитинов, 1985. С. 143; Фурсенко, 1978. С. 173]. Этой же точки зрения придерживается М. А. Филимонова, считая, что Статьи Конфедерации провозглашали создание союза штатов лишь для обеспечения общей обороны и защиты свободы [2007. С. 72]. В. В. Согрин полагает, что Статьи Конфедерации оказали пагубное влияние на страну в условиях борьбы за независимость, привели к экономической и военно-политической разобщенности штатов, дезорганизовали силы молодой североамериканской республики, мешали укреплению ее авторитета на международной арене [1980. С. 194].
Американский историк Дж. Фиске был одним из первых, кто занялся историей США в период действия Статей Конфедерации, освещая события 1781–1789 гг., попытался отойти от односторонне негативной оценки данного периода и характеризовал его как критический для американской истории [Fiske, 1899]. Начиная с 60-х гг. XX в. ряд американских историков начинают отказываться от традиционно критической оценки Статей Конфедерации, предлагая более сбалансированный поход с учетом исторической конъюнктуры [Johnson, 1964]. Крупный исследователь данной эпохи, представитель прогрессистского направления в историографии, М. Дженсен, подчеркивал, что при оценке Статей Конфедерации необходимо учитывать внутренние процессы и преобразования, происходившие как в североамериканских колониях в целом, так и в отдельных штатах, не забывая об особой социальной структуре колониальной Америки с ее противоречиями, которые только обострились на волне революции [Jensen, 1963. P. 11].
Современная историография также придерживается более сбалансированной оценки периода действия Статей Конфедерации и самой структуры данного документа. Так, например, ряд историков, в числе которых В. П. Адамс, один из ведущих специалистов в области американского конституционализма, подчеркивают, что Статьи Конфедерации – порождение революционной эпохи и были в первую очередь направлены на решение задач Войны за независимость, поэтому послевоенный период потребовал коренных конституционный изменений [Adams, 2001; Kaplanoff, 2000]. Подобную точку зрения разделяет и Дж. Рэйков, кото- рый предлагает рассматривать период действия Статей Конфедерации как переходный, логическим итогом которого стала ратификация новой Конституции. Рэйков считает, что послевоенное время нельзя назвать критическим или «темным» в истории американского государства, так как оно было ознаменовано небывалым подъемом политической активности, в результате которого американцы и пришли к выводу о необходимости изменения системы управления и создания правительства на качественно новой основе [Rakove, 1979; 1982; 2000; 2010].
Если Статьи Конфедерации были приняты в 1777 г., ратифицированы лишь в 1781 г., то разговоры о форме будущего государственного устройства, о необходимости создания союза штатов и единого свода законов, регулирующих этот союз, начались еще задолго до объявления независимости.
Так, например, уже в XVII в. некоторые колонии Новой Англии объединились в так называемую Конфедерацию Новой Англии, основной задачей которой была защита от нападений французов и индейских племен 1. В 1680 г. король Яков II объявил о создании доминиона Новой Англии с единым колониальным управлением, куда вошли территории от р. Делавэр до Пенобскот-Бэй. После Славной революции 1689 г. в Англии, когда стало известно, что Яков II покинул трон, доминион распался. В конце XVII столетия первым, кто аргументированно заявил о плюсах создания союза колоний, стал Уильям Пенн – английский религиозный и колониальный деятель, основатель английской колонии в Северной Америке, получившей название Пенсильвания. В своей работе «План колониального союза» 2 автор подчеркивал, что союз в первую очередь необходим для выполнения внешнеполитических задач – повышения эффективности борьбы с французами и индейцами. Автор предлагал организовать ежегодные собрания делегатов (Конгресс) от каждой колонии во главе с председателем, назначающимся королем. В сферу ведения Конгресса должны были входить проблемы торговых отношений между колониями, «вопросы о путях и мерах совместной защиты от внешних врагов» 3. Данные вопросы, передаваемые в ведение центрального органа управления Союзом колоний, в дальнейшем нашли свое отражение в Статьях Конфедерации [Jensen, 1963. P. 107].
План Пенна вызвал в североамериканских колониях неоднозначную реакцию. Негативно на подобное предложение отреагировала Виргиния, заявив, что такая система грозит расширением прав и полномочий центрального органа управления союза: может потребоваться право регулировать денежное обращение и налоговую политику, решать вопросы о границах и унифицировать законы для всех колоний, входящих в союз. В свою очередь эти меры могут отрицательно сказаться на внутренних делах отдельных колоний. Интересно, что той же системой аргументации виргинцы пользовались и в процессе разработки Статей Конфедерации [Ibid. P. 108].
По существу, никакого альтернативного плану Пенна проекта не было предложено вплоть до конгресса в Олбани. В 1754 г. по инициативе Британского торгового комитета был созван конгресс представителей семи колоний для решения вопросов, опять же связанных с все нарастающей опасностью франко-индейской войны и угрозы со стороны Франции в Канаде. Вместе с тем одной из центральных тем для обсуждения в рамках конгресса стал «План Cоюза» 4, составленный делегатом от Пенсильвании Б. Франклином.
План предусматривал создание союза одиннадцати колоний с единым союзным органом управления, так называемым Большим Советом. Однопалатный Совет имел право решать вопросы о границах и территориальные споры, взимать налоги и таможенные пошлины в том случае, если это действительно служило интересам Союза и не угрожало благосостоянию отдельных колоний и их жителей [Ibid.].
В 1754 г. «План Союза» Б. Франклина не получил своего практического воплощения, однако значение его не стоит преуменьшать. Во-первых, этим планом автор обозначил североамериканские колонии как некое политическое единство, отделенное от метрополии и других британских колоний в Вест-Индии, а во-вторых, уже здесь Б. Франклин наметил многие проблемы, с которыми столкнулись американцы после объявления независимости – вопросы финансов, торговли, защиты от внешней угрозы.
Таким образом, идея о необходимости создания единого союза колоний на американском континенте существовала еще задолго до объявления независимости. В верхах американского общества созревала мысль о союзе как более эффективном средстве существования колоний, к этому подталкивало множество причин как внешне-, так и внутриполитического характера, а предлагаемые планы союза определили ту роль Континентального Конгресса, которая ему была отведена после объявления независимости, и стали основой для создания Статей Конфедерации.
Оба рассмотренных «Плана Союза» демонстрируют стремление к созданию некого колониального единства, в центре которого должен стоять единый орган власти. Вместе с тем оба плана создавались в первую очередь с целью организации совместной защиты от угрозы извне. На данном этапе ни один из планов не был воплощен в жизнь, во многом из-за действий отдельных штатов, боявшихся из-за создания Союза потерять часть своих прав и полномочий.
С началом революции становилась все более очевидной необходимость поиска новых решений по вопросу будущего североамериканских колоний. В американском обществе не существовало единого мнения относительно того, на каких основаниях должен строиться Союз восставших колоний. По этому вопросу можно условно выделить два идейных направления: «националисты» и «локалисты» 5 (В. В. Согрин – «децентралисты» [1980], в американской историографии – «сторонники прав штатов»). Националисты выступали за создание союза штатов, объединенного сильной центральной властью с широкими полномочиями, и ограничение прав штатов. Локалисты же, напротив, призывали к созданию союза штатов, в котором полномочия центральной власти были бы значительно уменьшены в пользу штатов.
В ходе революции наблюдается тенденция усиления локалистов, что в конечном счете привело к созданию Статей Конфедерации, в которых права штатов были значительно расширены.
По мере того как отношения между колониями и метрополией усложнялись, идея о необходимости создания колониального союза и выстраивания отношений с Британией на новой основе становилась все более реальной. Так, в 1774 г. в рамках работы первого Континентального конгресса был вынесен на рассмотрение новый план Cоюза, на этот раз разработанный делегатом от штата Пенсильвания Дж. Гэллоуэем. От предыдущих планов его отличало то, что он был направлен в первую очередь на создание союза североамериканских колоний и Великобритании. В его основу легло стремление, с одной стороны, объединить колонии в некое политическое единство, с другой – восстановить и упрочить пошатнувшиеся отношения с Англией. Дж. Гэллоуэй писал: «У колоний вызывает сильную неприязнь идея о возможности отделения от Британского правительства, и наше самое страстное желание заключается в создании политического союза не только между самими колониями, но и со страной-матерью, в основе этого союза должны быть заложены принципы свободы и безопасности…» [JCC, 1904. Vol. 1. P. 49–51].
Гэллоуэй предложил сформировать Большой колониальный совет, который руководил бы делами североамериканских колоний совместно с парламентом Великобритании. Согласно плану в совет должны были войти генерал-президент, назначаемый королем, и представители колоний, избираемые колониальными ассамблеями. Генерал-президент по согласованию с Большим советом наделялся законодательными полномочиями и всей полнотой власти, необходимой для решения важных колониальных вопросов, затрагивающих интересы как самих колоний, так и Великобритании. Генерал-президент и Большой совет должны были стать отдельными ветвями власти, но объединяло бы их то, что обе находились в подчинении британскому правительству и являлись частью этой системы управления. По замыслу автора проекта, коммерческие отношения колоний, дела гражданского или уголовного ха- рактера могли находиться в ведении и британского парламента, и Большого совета.
План Гэллоуэя не был одобрен Конгрессом. Появление Саффолкских резолюций, единогласно принятых представителями Бостона и окрестных городов, содержавших протест против так называемых «Нестерпимых актов», отказ исполнять эти законы и подчиняться английским чиновникам привели к полному провалу плана.
Проект Гэллоуэя отличается от всех тех, что были рассмотрены нами ранее. Он был направлен в первую очередь не на создание внутреннего союза колоний, а на реорганизацию отношений с Великобританией. Именно поэтому М. Дженсен называет этот план «воплощением ультраконсервативной мысли того периода», но вместе с тем важно отметить, что значение этого плана в истории создания американской государственности велико. Большой совет, создаваемый планом Гэллоуэя, стал прообразом американского парламента с правом вето на британские законы [Jensen, 1963. P. 110]. Таким образом, для понимания идейных истоков Статей Конфедерации данный план также нельзя упускать из внимания.
Новый План союза штатов, как самостоятельного политического образования, был предложен Б. Франклином в 1775 г. 6 Союз колоний создавался «для отстаивания своих прав и свобод на собственность, безопасность и благосостояние» [Ibid.]. Центральным органом управления должен был стать Главный конгресс с широким кругом полномочий: вопросы войны и мира, дипломатических отношений, проблемы территориальных и пограничных споров между колониями. Б. Франклин наделил Конгресс большой властью, указав на его право издавать законы и указы, регулирующие торговые отношения как внутри союза, так и за его пределами, денежное обращение. Помимо Конгресса предполагалось создание отдельного органа исполнительной власти, действующего на постоянной основе. Колониальное правительство не должно было быть удалено из системы управления, однако наиболее важные вопросы отводились в юрисдикцию Конгресса.
В 1775 г. план конфедерации Б. Франклина не был серьезно воспринят делегатами Конгресса, которые видели необходимость союза лишь для организации совместных военных действий. Б. Франклин во многом опередил своих современников, допустив возможность создания союза штатов на постоянной основе, цели которого выходили бы далеко за рамки простого военного объединения для борьбы против Великобритании. В основу плана легла идея о сильном централизованном управлении, попытка минимизировать автономность колоний и органов местного самоуправления.
На наш взгляд, самым серьезным препятствием на пути создания союза штатов, которое сохранится на протяжении всего периода функционирования Статей Конфедерации, была независимость и автономность североамериканских колоний друг от друга. Несмотря на единство языка, историческое прошлое и правительство в лице Британской империи, нельзя не согласиться с точкой зрения ряда историков [Jillson, 1988. P. 6], что колонии Новой Англии, Средне-Атлантические и южные штаты имели свои экономические и политические приоритеты, свой собственный взгляд на перспективы развития.
Кроме того, несмотря на то, что бремя войны и экономические трудности восставших колоний указывали на необходимость союза и конституционного его закрепления, революция сама по себе была движением против централизованной политической власти, что делало задачу политического единства колоний труднодостижимой. Данное замечание важно не только для рассматриваемого нами периода, но и для последующих событий, так как стремление штатов к расширению своих свобод и полномочий в сочетании с ослаблением позиций Континентального Конгресса стало основной тенденцией политического развития Союза в период после объявления независимости.
По мере того как процесс завоевания независимости набирал обороты, не прекращались дискуссии о будущем политическом устройстве североамериканских колоний. Очередной план формирования союза был предложен Б. Франклином на сей раз в июле 1776 г., когда представители штатов в целом одобрили идею провозглашения независимости и создания межгосударственного союза в качестве единого политического организма: «…представители всех штатов видят острую необходимость создания Статей Конфедерации или Континентальной Конституции» [JCC, 1906. Vol. 4. P. 256]. Важно отметить, что никаких содержательных характеристики в термин «конфедерация» тогда не вкладывалось, это слово могло употребляться в значениях «союз» или «какое-либо политическое объединение». Единственным образцом подобного объединения для колоний были Нидерланды, и организация власти Объединенных провинций объективно повлияла на конституирование конфедерации. Кроме того, у американцев той эпохи еще не сформировалось понимание различий между понятиями «федерация» и «конфедерация».
Одиннадцатого июня 1776 г. было принято решение о создании комиссии по выработке проекта конфедерации. Одним из авторов проекта Статей Конфедерации стал Дж. Дикинсон. Основываясь на плане 1776 г. Б. Франклина, автор попытался создать систему, при которой центральная власть была бы значительно усилена и поддерживалась бы исполнительной властью и бюрократическим аппаратом.
План, согласно которому права штатов были сильно ограничены, не мог удовлетворить правительства штатов, желавших после завоевания независимости получить широкие властные полномочия, поэтому, по выражению самого Дикинсона, «после оглашения плана в Конгрессе разгорелись ожесточенные дискуссии, затянувшиеся на долгое время» [Jensen, 1963. P. 127]. Так, Э. Рутледж в письме Дж. Джею отмечал: «Идея полного равенства всех колоний во благо всего Союза может привести к полному краху всей системы, а наделение Конгресса большой властью разрушительно…» [JCC, 1906. Vol. 4. P. 337].
Дебаты относительно пунктов Статей Конфедерации не прекратились и в июле 1776 г. с изданием Декларации независимости, и продолжались до августа 1776 г. Окончательный план Статей Конфедерации был создан лишь после длительных и ожесточенных дискуссий по вопросам представительства штатов в Континентальном Конгрессе, налогообложения, контроля над западными территориями, но самой основной была проблема распределения власти между центральным правительством и шта- тами. Дискуссии шли по ключевому вопросу, от которого зависела дальнейшая судьба создаваемого политического объединения: должно ли создаваться единое национальное государство или конфедерация независимых друг от друга штатов, наделенных широким кругом полномочий [Jensen, 1963. P. 139, 146]. Так, например, Б. Франклин и Дж. Адамс выступали за тесное единство штатов с сильной единой правительственной властью, а локалистски настроенные делегаты Конгресса, наоборот, пытались всячески сорвать попытку усиления центральной власти [Филимонова, 2007. C. 72]. Такой позиции придерживалось большинство представителей южных штатов.
Основные спорные вопросы, оттягивающие ратификацию Статей Конфедерации с ноября 1777 г. вплоть до марта 1781 г., сводились к проблеме границ и контроля над западными территориями. Некоторые штаты, такие как Виргиния, выдвигая требования на земли у Мексиканского залива и р. Миссисипи, настаивали на том, что судьба этих территорий должна решаться легислатурами штатов. Малоземельные штаты – Мэриленд, Пенсильвания, Делавэр, Нью-Джерси и Род-Айленд – напротив, настаивали на том, чтобы Конгресс имел право контроля и распоряжения этими спорными территориями.
Множество существующих разногласий между штатами, разнообразие точек зрений о будущем государственном устройстве, затягивали ратификацию Статей Конфедерации, а в процессе обсуждения пунктов нового документа все настойчивее проявлялась тенденция к размыванию и уменьшению полномочий Конгресса и расширению прав штатов.
Статьи Конфедерации были окончательно ратифицированы лишь в 1781 г. Они объявляли о бесповоротном создании общего политического единства [JCC, 1912. Vol. 19. P. 214]. Вместе с тем, исходя из формулировок Статей Конфедерации, нельзя в полной мере говорить о создании единого государства, но лишь о конфедерации независимых штатов с широким кругом полномочий: «Каждый штат сохраняет свое верховенство, свою свободу и независимость, равно как всю власть, всю юрисдикцию и все права, которые не предоставлены этой конфедерацией Соединенным Штатам, собравшимся на Конгресс» [Ibid.].
Центральным органом управления становился Континентальный Конгресс. В сфере внешней политики Континентальному Конгрессу принадлежало исключительное право решать вопросы войны и мира, отправлять и принимать послов, заключать международные договоры и вступать в союзы, регулировать взаимоотношения с индейцами. Штаты, в свою очередь, не имели права ведения самостоятельной внешней политики. Ни один штат не имел права развязывать войну без согласия на то Континентального Конгресса. Штаты не имели права заключать между собой союзы без согласия на то остальных членов Союза, вводить налоги и пошлины, нарушающие договоры и интересы Конгресса. В обязанность штатов – членов Конфедерации также входил вопрос о наполнении союзной казны соразмерно с ценностью земель штата [Ibid. P. 216, 217].
Конгресс имел исключительное право регулирования денежного обращения, системы мер и весов, торговли и почтового дела. Он становился высшей апелляционной инстанцией во всех спорах, возникающих между штатами относительно вопроса о границах или юрисдикции. Вместе с тем данным правом Конгресс мог воспользоваться только в том случае, если одна из сторон потребует от Конгресса вмешаться и назначить судей для разрешения спорного вопроса. Для решения всех важных вопросов Союза требовалось согласие большинства, т. е. девяти штатов. Специально оговаривалось, что без их одобрения все перечисленные полномочия недействительны [Ibid. P. 220].
Статьи Конфедерации предусматривали создание Комитета штатов, заседающего между сессиями Конгресса. Комитет должен был ведать финансовыми вопросами, контролировать отчисления штатами средств в казну Конфедерации, занимать деньги или выпускать кредитные билеты от имени Соединенных Штатов; военными вопросами – сооружать флот и снабжать его всем необходимым, устанавливать размер сухопутной армии.
Создание Комитета штатов представляет собой попытку формирования исполнительной власти. Вместе с тем уже из самих формулировок Статей Конфедерации можно увидеть ту незначительность, которая придавалась данному органу власти, так как не предусматривалось конкретных механизмов проведения в жизнь решений Комитета штатов, а его деятельность не подкреплялась аппаратом принуждения. Иными словами, Комитет штатов, возможно, и мог осуществлять контроль за финансовыми делами Конфедерации, но не мог применить каких-либо санкций в отношении тех штатов, которые нарушали тот или иной пункт Статей Конфедерации.
Заключительные пункты Статей Конфедерации закрепляли положение о том, что «…статьи этой Конфедерации должны быть ненарушимо соблюдаемы каждым из штатов, и Союз должен быть вечен…» [Ibid. P. 221–222]. Подобными патетическими словами заканчивались Статьи Конфедерации, обещая гармонию и сотрудничество штатов, вошедших в Конфедерацию. Однако последующие события покажут недолговечность создаваемого Союза, а проблемы, которые на первый взгляд были решены в ходе подготовки Статей Конфедерации, не заставят себя долго ждать и лишь обострятся с новой силой.
Таким образом, идея о необходимости создания некоего политического единства на Североамериканском континенте существовала еще задолго до Войны за независимость, поэтому сам факт создания Cоюза штатов и документа, его закрепляющего, можно считать вполне логичной закономерностью. Естественно, со временем цели такого союза менялись – из стремления к созданию военного союза для организации совместной защиты от внешних врагов они трансформировались в идею создания конфедерации на постоянной основе для реализации ряда экономических, внешне- и внутриполитических задач. Несмотря на то, что планы союза колоний существовали уже с XVII столетия, их воплощение стало возможным лишь в период борьбы за независимость. Вместе с тем важно и то обстоятельство, что многие деятели Войны за независимость, в принципе не отрицающие необходимость союза североамериканских колоний, связывали завоевание государственного суверенитета с мерами по ослаблению центральной власти.
Подобное стремление к децентрализации власти в Союзе, с одной стороны, может быть объяснено глубокой убежденностью некоторых американских политиков в том, что создание центрального правительства с широкими полномочиями противоречит са- мой идее американской борьбы за независимость, с другой – необходимо учитывать различия, которые существовали между североамериканскими колониями в экономической, политической и культурной сферах. Американские колонии попросту не ощущали себя каким-то единством под управлением Великобритании, поэтому и интеграция в революционный и постреволюционный периоды проходила столь тяжело.
Список литературы Создание статей конфедерации и начало американской государственности
- Болховитинов Н. Н. История США: В 4 т. М.: Наука, 1985. Т. 2. 600 с.
- Согрин В. В. Идейные течения в американской революции XVIII века. М.: Наука, 1980. 389 с.
- Филимонова М. А. Соединенные Штаты Америки на пути к консолидации. Политическая борьба в Континентальном Конгрессе 1781-1788. М.: Ин-т всеобщей истории РАН, 2007. 278 с.
- Фурсенко А. А. Американская революция и образование США. Л.: Наука, 1978. 414 с.
- Adams W. P. The First American Constitutions: Republican Ideology and the Making of the State Constitutions in the Revolutionary Era. New York: Rowman & Littlefield, 2001. 379 p.
- Fiske J. The Critical Period of American History, 1783-1789. Boston; New York: Houghton Mifflin & Co, 1899. 396 p.
- Jensen M. The Articles of Confederation. An Interpretation of the Social-Constitutional History of the American Revolution 1774-1781. Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1963. 284 p.
- Jillson C. C. Constitution Making: Conflict and Consensus in the Federal Convention of 1787. New York: Agathon Press, 1998. 242 p.
- Journals of the Continental Congress / Ed. by W. Ch. Ford. Washington: Gov-t Printing Office, 1904. Vol. 1. 144 p.; 1906. Vol. 4. 416 p.; 1912. Vol. 19. 436 p.
- Johnson H. A. Toward a Reappraisal of the Federal Government: 1783-1789 // American Journal of Legal History. Oxford, 1964. Vol. 8. P. 314-325.
- Kaplanoff M. D. Confederation: Movement for a Stronger Union // A Companion to the American Revolution / Eds. J. P. Greene, J. R. Pole. Oxford, 2000. P. 458-470.
- Main J. T. The Sovereign States, 1775-1783. New York: New Viewpoints, 1973. 502 p.
- Rakove J. N. Revolutionaries: A New History of the Invention of America. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2010. 496 p.
- Rakove J. N. The Articles of Confederation 1775-1783 // A Companion to the American Revolution / Eds. J. P. Greene, J. R. Pole. Oxford, 2000. P. 281-286.
- Rakove J. N. The Beginnings of National Politics. An Interpretive History of the Continental Congress. New York: Knopf, 1979. 484 p.
- Rakove J. N. The Continuing Legacy of the Articles of Confederation // Publius. Oxford, 1982. Vol. 12. No. 4: The Continuing Legacy of the Articles of Confederation. P. 45-66.
- Thach C. C. Jr. The Creation of the Presidency 1775-1789. A Study in Constitutional History. Indianapolis: Liberty fund, 2007. 179 p.