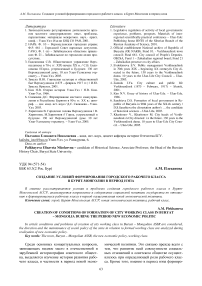Создание условий формирования городского рабочего класса в Бурят-Монголии в период НЭПа
Автор: Плеханова Анна Максимовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Колонка редактора
Статья в выпуске: 7, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются условия и проблемы создания городского рабочего класса в Бурят-Монгольской АССР, анализируется направление и содержание социальной политики государства по отношению к формирующемуся рабочему классу в период осуществления новой экономической политики.
Город, бурят-монгольская асср, новая экономическая политика, рабочий класс, buryat - mongolian аssr
Короткий адрес: https://sciup.org/148179014
IDR: 148179014 | УДК: 94
Текст научной статьи Создание условий формирования городского рабочего класса в Бурят-Монголии в период НЭПа
Среди основных концептуальных вопросов, занимающих видное место в отечественной и зарубежной историографии советского общества, выделяется изучение истории развития рабочего класса, в частности в период новой эконо- мической политики. Это связано прежде всего с тем, что развитие всей совокупности социальных отношений в советском обществе осуществлялось при определяющей роли рабочего класса. Кроме того, именно в период нэпа формиро- вались способы и методы воздействия рабочего класса на социальную жизнь общества. Чтобы получить более полное представление о характере развития рабочего класса в советском обществе, необходимо рассмотреть условия и механизм его создания. Такой анализ позволит показать рабочий класс в движении и взаимодействии с другими формирующимися социальными группами общества.
Предваряя анализ поставленной проблемы, укажем, что мы разделяем точку зрения исследователей, считающих, что в период нэпа в Бурят-Монгольской АССР рабочие как класс еще не оформились. Поэтому применительно к периоду осуществления нэповских преобразований в республике уместно говорить о рабочих кадрах. Создание рабочего класса в Бурят-Монголии приходится на конец 20-х – 30-е гг. – период индустриальной модернизации.
Постановка указанной темы на региональном уровне не является новой. Вопрос о росте численности рабочих, формировании национальных кадров занимал определенное место уже в публикациях 20-х гг. Непосредственно развитие рабочего класса и процесс подготовки «кадров национального пролетариата» в исторической литературе того времени не рассматривались. Они освещались лишь эпизодически, главным образом в работах, посвященных революции, гражданской войне, строительству нового общества [5, 6]. Эти работы не дают представления о политической, социальной и культурной основах развития рабочего класса. В них нет конкретных сведений, характеризующих его социальное окружение, культурные и политические основы жизнедеятельности, хотя во многих из них декларируются тезисы о том, что вся социальная политика Советского государства направлена на удовлетворение интересов трудящихся, что социальное окружение рабочего класса становится все более однородным с ним. Большинство исследований 20-х гг. носили статистико-экономический характер и имели значение, главным образом, для обоснования ведущей роли рабочего класса в новой общественной системе.
С конца 1930-х гг. основным содержанием работ по данной проблеме становится пересказ различных постановлений и директив правительства по вопросам народного благосостояния, их иллюстрация перечнем итоговых цифр.
Лишь с середины 50-х гг. стали появляться работы с конкретно-историческим подходом к рассматриваемой проблеме. В работах Б.М. Ми-тупова [9], Е.Е. Тармаханова [24, 25], написанных с привлечением большого фактического материала, рассматривается начальный этап формирования рабочего класса Бурятии. Так, Е.Е. Тармаханов считает, что к 1929 г. было положено начало формированию рабочего класса в республике [24, с. 49]. Однако в этих исследованиях, охватывающих промышленное развитие Бурятии за длительный период, нэп не конкретизируется и сводится к «восстановлению и началу реконструкции народного хозяйства», что, впрочем, характерно для большинства работ данного периода историографии.
Исследования последних лет отличаются, прежде всего, постановкой новых тем, в течение длительного времени замалчивающихся [3, 10]. Началось изучение в конкретно-историческом плане таких вопросов, как позиция промышленного рабочего класса в отношении новой экономической политики, изменение его психологии в этот период. В работах с разной степенью полноты обосновывается тезис, что административные меры, зарождающиеся в 20-е гг., устраивали во многом значительную часть рабочего класса, создавая для него определенную систему социальных гарантий. В целом следует отметить, что, несмотря на пристальный интерес к рассматриваемой проблеме, местные исследования в концептуальном плане несколько отстают от общероссийского уровня.
Структура рабочих кадров в Бурят-Монголии в период осуществления новой экономической политики, как и в целом в стране, являлась неоднородной и состояла из рабочих государственного, кооперативного и частного секторов. Рабочие государственной промышленности являлись той частью населения, на которую в первую очередь опиралась правящая партия, поэтому их количественный рост имел первостепенное значение для формировавшегося Советского государства. Именно из среды рабочего класса, по мнению руководителей партии, необходимо было воспитывать руководящие административно-хозяйственные и технические кадры.
В связи со свертыванием производства в годы войны и интервенции, а также закрытием нерентабельных фабрик и заводов на начальном этапе осуществления нэпа в Бурятии наблюдалось резкое сокращение численности рабочих. В 1923 г. на расположенных на территории Бурят-Монгольской АССР мелких, полукустарного типа промышленных предприятиях было занято всего 854 рабочих (по сравнению с 1912 г. численность рабочих сократилась на 48%) [23, с.12].
Восстановление промышленности в крае сопровождалось пусть медленным, но все-таки увеличением числа рабочих. В 1927-1928 гг. в государственной цензовой промышленности было занято 1 215 рабочих, из них бурят было всего 48 (3,95%), женщин – 185 (15,2%) [22].
Пополнение рабочих кадров в республике происходило за счет избытка рабочих рук в улусе и деревне, естественного прироста населения, а также за счет лиц, прибывших из крупных промышленных центров страны. На промышленные предприятия возвращались рабочие, ушедшие в годы Гражданской войны и иностранной интервенции на фронт, а в неурожайные годы – в улусы и села в поисках хлеба и заработка. В основном же потребность в рабочей силе на протяжении 20-х гг. покрывалась за счет батрачества, прибывающего из деревень и улусов.
Следует заметить, что значительная часть бедноты и батрачества шла на работу по найму в первую очередь в сельское хозяйство. Так, количество учтенных годовых, сроковых и месячных сельскохозяйственных рабочих, занятых в индивидуальных крестьянских хозяйствах и в сельских обществах (без промыслов), составляло в 1926 г. 6 176, в 1927 г. – 8 797, в 1928 г. – 8 562, в 1929 г. – 7 300 [9, с. 73].
Часть батрачества, не найдя постоянной работы в сельском хозяйстве и достаточного для прожиточного минимума заработка, уходила в город. Так, по данным Верхнеудинской биржи труда за 1926-1927 гг., было зарегистрировано 550 безработных, прибывших из деревни и улусы, а с 1 октября 1927 г. по 1 октября 1928 г. – 950 [24, с. 48]. Руководство республики констатировало, что «основной наплыв безработных идет за счет прибывающих из деревни и других городов» [13].
Наличие массовой безработицы – это самый острый вопрос в сфере занятости населения в 20-е гг. С введением нэпа и связанными с этим структурными изменениями в сфере промышленности резко сократился спрос на рабочую силу. Уровень ее по сравнению с численностью трудовых ресурсов был высоким. Проблема, связанная с оборотом рабочей силы, заключалась в крайне неравномерном соотношении числа высвобожденных работников и незанятых рабочих мест. Первыми подвергались сокращению при закрытии нерентабельных предприятий рабочие большей частью малоквалифицированные и неквалифицированные, впоследствии – работники учреждений и государственного аппарата, т.е. служащие.
Документальный материал свидетельствует о существовании разнообразных форм безработицы в исследуемый период, а именно: сезонная
(например, в рыбной, строительной отрасли), временная (связана с закрытием и открытием промышленных заведений). Процесс нарастания темпов безработицы продолжался в Бурятии на всем протяжении нэпа, что говорит о противоречивости развития экономики в 20-е гг. Так, в 1923-1924 гг. в Бурятии было зарегистрировано 1 394 безработных, в 1926-1927 гг. – 1 861, в 1927-1928 гг. – 2 200 [18]. Весной 1927 г. Бур-ЦИК, отметив увеличение количества безработных, издал циркуляр о порядке приема на работу только через органы Бурнаркомтруда (биржу труда) [11].
В стране в 1928 г. безработица при численности рабочих в 10,8 млн человек составила огромную цифру – 1,5 млн [2]. Безработица – явление, присущее рыночной экономике. Наличие резервной армии труда, ее рост или уменьшение свидетельствуют о состоянии экономики. В Советском государстве, строившем социализм, отсутствие безработицы, устранение ее возможных причин – одно из основных доказательств преимущества нового строя. Поэтому преодоление безработицы и ее последствий имело не только экономическое значение, но и несло огромный социальный, политический заряд.
Безработица в 20-е гг. находилась под контролем государства. Хранящиеся в государственных архивах статистические данные, отчеты, протоколы заседаний обкома партии – яркое тому свидетельство. Чтобы не допустить распыления квалифицированных сил, государственные органы шли на создание различного рода артелей, объединений, привлекали безработных на общественные работы.
Не менее остро в 20-е гг. стояла проблема квалификации рабочих. Это особенно болезненно проявлялось в аграрных регионах, к каковым относилась и Бурятия. Крайний дефицит квалифицированных кадров констатировался практически на всех собраниях, в различных отчетах, докладах руководителей. Относилось это ко всем отраслям промышленности.
По квалификации рабочие делились на «производственных» и «непроизводственных». К первым относились квалифицированные и неквалифицированные рабочие, ко вторым – чернорабочие, охрана, ученики. Подготовка рабочих кадров осуществлялась через школы типа ФЗУ, курсы подготовки специалистов, курсы рабочего образования, профтехшколы. Если в 1923-1924 гг. во всех видах учреждений Бурятии по подготовке кадров обучалось 363 человека, из них 158 бурят, то в 1927-1928 гг. – 670, из них 325 бурят [25, с.24].
Вместе с тем следует заметить, что в связи с решением задач увеличения численности рабочих масс планомерная подготовка квалифицированных кадров отодвигалась на второй план, что, естественно, сказывалось в конечном итоге на уровне промышленного развития. Помимо объективных причин, оказавших влияние на численность и состав рабочих, необходимо отметить и факты волевых решений о занятости в тех или иных отраслях производства. Местные большевистские организации нередко в угоду политике решали производственные задачи за хозяйственных руководителей, в том числе и по кадровым проблемам и другим вопросам экономического развития региона. В подтверждение данного тезиса можно сослаться на политику государственных органов по отношению к кустарной промышленности.
Для России 20-х гг. существование «смешанной» экономики позволяло успешно решать многие задачи хозяйственного развития. Так, в Бурятии удельный вес продукции, выпущенной мелкой кустарной промышленностью, составлял в 1928 г. 40% всей продукции промышленного хозяйства республики. 75% общего числа работавших в Бурятии было занято в кустарных промыслах [21]. Этот показатель весьма существенен, так как позволяет отнести кустарей того времени к крупной социальной экономической группе населения республики. Несмотря на то, что они играли заметную роль в подъеме экономики Бурятии, им не предоставлялись льготы, распространяемые на государственные предприятия. Различной была шкала налогов. Поскольку крупная промышленность – основа социалистического строя – еще только переживала период своего становления, то партийные организации признавали и в какой-то степени поддерживали мелкую и кустарную промышленность. Кожевенные, мукомольные, швейные предприятия не только производили необходимые для населения предметы потребления, но и способствовали накоплению средств для становления крупной промышленности в Бурятии. Кустарные промыслы ослабляли безработицу в регионе и сохраняли рабочие кадры. Ведь рабочие Бурятии были тесно связаны с сельским хозяйством. Поэтому они не уезжали далеко от закрытых предприятий, а занимались побочными работами, в том числе и в кустарных мастерских, надеясь на возобновление работы в будущем.
Рост численности рабочих кадров в аграрной Бурятии сопровождался и негативными явлениями. Форсированный рост пролетариата в первую очередь тяжело отражался на его экономическом положении. К сожалению, тезис об улучшении материального положения рабочих касался не всех категорий, так как «чистых» пролетариев было очень мало, большинство рабочих было «полукрестьянами» [1, с. 44].
Одним из главных показателей материального благосостояния рабочих является заработная плата, которая на протяжении осуществления нэпа в Бурятии характеризовалась стабильным ростом. Так, средний размер зарплаты рабочих по всем отраслям в 1913 г. составлял 44 р. 64 к., в 1923 г. – 38 р. 17 к., в 1924 г. – 41 р. 91 к., в 1925 г. – 48 р. 60 к., в 1926 г. – 51 р. 97 к., в 1927 г. – 54 р. 37 к., в 1929 г. – 64 р. 4 к. [8, с.15, 17, 19]. По этим данным видно, что в 1925 г. зарплата рабочих достигает довоенного уровня. Ежегодно и притом гораздо более быстрыми темпами увеличивался размер заработной платы служащих: в 1925 г. зарплата служащих достигла уровня 1913 г., составляя 91 р., в 1927 г. – 103 р., в 1929 г. – 121 р. [4, с. 90, 12, 20].
Однако лишь по размеру заработной платы нельзя судить о материальном благосостоянии рабочих и служащих. Необходимо также учитывать покупательную способность рубля, которая и к концу 20-х гг. не достигла довоенного уровня: то, что стоило в 1913 г. 1 рубль, в 1927 г. стоило 1 р. 63 к., т.е. коэффициент для перевода зарплаты в реальное исчисление равен 1,63 [7, с. 24]. Таким образом получается, что зарплата рабочих фабрично-заводской промышленности в перерасчете на реальную в 1927 г. составляла 33 р. 3 к., служащих – 63 р.
Более менее устойчивое социальноэкономическое положение большинству рабочих обеспечивала складывающаяся в годы нэпа система социальных гарантий: предоставление продовольственных пайков, обеспечение бесплатной медицинской помощью, жилищная политика. Однако здесь имелись как достижения, так и изъяны.
В основу государственной жилищной политики было положено распределение жилья и обеспечение рабочих дешевой жилой площадью. Достичь этого предполагалось предоставлением лучших жилищных условий рабочим семьям, которых переселяли из перенаселенных квартир, и осуществлением нового жилищного строительства. Однако размеры жилищного строительства заметно отставали от потребностей. Анализ архивных материалов позволяет сделать вывод, что в 20-е гг. «в связи с острой нехваткой средств» жилищное строительство явно не являлось двигателем экономического роста. Оно служило лишь способом удовлетворения самых элементарных нужд «в крыше над головой». В многочисленных информационных сводках, характеризующих настроение рабочих, говорится, что «… наиболее больным вопросом для рабочих является жилищный. Около него сосредоточивается центр внимания рабочих, и на него почти всегда сбиваются все рабочие, выступающие на различных собраниях и заседаниях. Затем частично наблюдается недовольство низкой оплатой труда» [14]. Что касается обеспечения рабочих медицинской помощью, то здесь, несмотря на выделяемые государством средства, сказывалось отсутствие достаточного числа квалифицированных кадров, малое количество больниц, поликлиник и амбулаторий, нехватка медикаментов. Так, в 1926 г. «Верхнеудинский стеклозавод, где количество рабочих превышало 500 человек, где по роду производства различных ранений от стекла бывает значительное количество, обслуживал только один фельдшер» [15].
С защитой интересов рабочих была связана деятельность профессиональных организаций. Помимо улучшения условий быта, борьбы с несвоевременной выплатой заработной платы, трудоустройства безработных при республиканском Совете профсоюзов существовал отдел социального страхования, плативший пенсии и пособия инвалидам труда, семьям умерших кормильцев, безработным. В 20-е гг. профсоюзы через производственные совещания и комиссии привлекали рабочих к участию в управлении производством. Активизация деятельности профсоюзов отражалась на росте численности Бурпрофсовета. Если в 1923 г. в Бурятии насчитывалось 5 278 членов союза, то в 1928 г. – 18 192 [23, с. 88].
Производственные совещания, производственные комиссии, выдвижение рабочих на административную работу – арсенал средств, при помощи которых декларировалась возможность реализации перспектив на пути передачи рабочим всей государственной власти в стране. При наличии официальной и единственной идеологии в обществе, провозглашаемой как идеология пролетариата, при активной политизации рабочих со стороны коммунистов на практике сложилась ситуация, когда власть, осуществляемая от имени рабочих, в действительности была у партийной номенклатуры.
Таким образом, в 20-е гг. слово «рабочий» стало приобретать классовый характер. Официальная идеология этим термином выражала высшую степень лояльности режиму, а «пролетарское происхождение» стало заветной целью многих людей.
В период осуществления нэпа, восстанавливая и развивая функционирующие отрасли промышленности, государственные органы обеспечивали занятость населения, определенный рост материального благосостояния, уменьшали размеры безработицы и тем самым устраняли или смягчали социальную угрозу политическому режиму. Личная предприимчивость и социальная политика способствовали тому, что, с одной стороны, часть населения улучшила свое благосостояние, с другой – даже небольшие изменения материального уровня вызывали негативную реакцию в психологии бедняцких слоев, что усложняло социальные отношения.
Специфическими тенденциями, характеризующими формирование новой социальноклассовой структуры республики в период нэпа, были:
-
- незначительный удельный вес рабочих в составе населения (несмотря на количественный рост рабочих кадров);
-
- высокий уровень безработицы.
Тенденция увеличения численности формирующегося рабочего класса была обусловлена объективной общественной потребностью, которая менялась с развитием производительных сил. В последующем на каждом историческом этапе этот процесс определялся особенностями количественного и качественного роста рабочих, что находилось в диалектическом единстве и обеспечивало непрерывную связь количественного увеличения и качественного совершенствования рабочего класса.