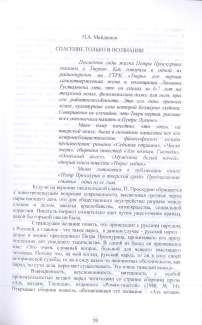Спасение только в осознании
Автор: Майданюк Петр Аркадьевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2005 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой одну из глав книги "Петр Проскурин и тверской край" и посвящена творчеству П. Проскурина.
П.проскурин, п. порскурин и тверской край
Короткий адрес: https://sciup.org/146120403
IDR: 146120403 | УДК: 82.09:821.161.1-3+929Проскурин
Текст научной статьи Спасение только в осознании
Мною готовится к публикации книга «Петр Проскурин и тверской край». Предлагаемая статья - одна из ее глав.
Будучи на вершине писательской славы, П. Проскурин обращается к животрепещущим вопросам современности, высвечивая грозные черты нарастающего день ото дня общественного неустройства: разрыва между словом и делом, засилья краснобайства, казнокрадства, социальной коррозии. Писатель-патриот сознательно идет путем ужесточения правды, какой бы горькой она ни была.
Страждущее желание понять, что происходит с русским народом, с Россией, а главное - что такое народ, в данном случае - русский народ -денно и нощно преследовало Петра Проскурина, пронизывало его прозу последних лет ушедшего тысячелетия. В одной из бесед он признавался мне: «Это очень сложный вопрос, больной для всякого мыслящего человека. Потому что, на мой взгляд, русский народ, то ли в силу своей исторической судьбы, то ли в силу каких-то непонятных обстоятельств, как народ, по сути дела, перестает существовать. Это очень тяжелый вывод».
Взвихренность, неуспокоенность, мятежиость с особой пронзительностью встают перед читателями со страниц сборника прозы «Азъ воздам, Господи», изданного «Роман-газетой» (1988. № 14). Открывает сборник повесть, обозначившая его название - «Азъ воздам,
Господи». Но о ней - в свое время. Вначале - о следующей за щей: «Однажды в сумерках».
Евдокия Савельевна Зыбкина - известная всей стране, «выбитая из колеи» Указом о присвоении ей самого высокого звания, на своей даче «с просторным концертным залом, с лифтом на второй и третий этажи и с теплым гаражом на два десятка машин», - ждет приезда одного из самых влиятельных лиц в государстве, «партийного козла, мгновенно перескочившего из коммунистов в демократы», с его любовницей -«аристократкой актрисулей Дубовицкой». Она тщательно готовится к предстоящему приему, обряжая все подобающие для того части тела златом и драгоценностями. Совершая предпраздничную прогулку невдалеке от дачи-дворца, окруженного, кстати, к приезду немыслимой важности гостя многочисленной охраной, Евдокия Савельевна неожиданно, не в страшном сне, а наяву становится свидетельницей и участницей сюрприза почти фантастического, фатального.
Происходит не «фантастическое» и не «фатальное», а вполне заурядное, ставшее уже неотъемлемым и привычным в нашем просвещенном государстве действо. Проникший сквозь «плотные заставы охранников-профессионалов» вор-рецидивист (теперь это называется далеким от русской лексики словом «рэкетир»), угрожая ножом, «просит» ее сложить все драгоценности в предусмотрительно раскрытый саквояж: «Возьми, возьми, сдерни с себя все цацки и аккуратненько, слышишь, ничего не оброни в снежок... аккуратненько сложи в саквояжик...». Ничего неординарного, казалось бы, не происходит. Повседневная реальная наша действительность, которой никто уже и не удивляется.
И далее П. Проскурин устами Сергея Романовича (вора - П.М.) выносит приговор этой действительности, высвечивая причины и виновников беспредела, социальной чумы, свидетелями которых мы являемся сегодня, ежедневно и ежечасно: «Ну что ты заходишься, тетя Дуня. - стал сердечно утешать ее ночной приятель, явно донельзя довольный происходящим,- ты себе еще по десять раз столько напоешь, наплачешь за месяц-другой, а мне где взять? Сама подумай, мне гоже жить хочется - ты же видишь, совсем еще молодой. Не жалей, всенародная наша, все на этом свете прах и суета...».
Из того, что каждодневно встречается в нашей непонятной (непонятной ли?) повседневности мы слышим в диалоге «талантливой и . всенародной» Евдокии Савельевны с «вором в законе». И, наконец, то самое, что делает рассказ остропублицистическим: «...Ты же умная, матушка, знаешь, что не я вор, а те наверху, которых ты своими песенками ублажаешь. Они-то и есть настоящие бандюги, всю Россию по винтикам растащили, распродали... мы сейчас с этими верхами накрепко сшиты, а там мы еще посмотрим, кому окончательно власть вручить. Может, себе оставим. Знаешь, сколько людей на самые верхние высоты выбились, если сказать тебе - дух захватит».
Рассказ «Свидание с собой» вновь возвращает нас к нашей действительности с ее «свинцовыми мерзостями». Прошедший «Афган и Чечню» главный герой рассказа Гоша видит их на каждом шагу в родном городе, столице великой России. С болью в сердце и ожесточением слушает он откровения соседки, сердечной подруги своей умершей матери: «Сейчас даже ношпу купить - половина моей пенсии... Никак не нажрется наш всенародный, чтоб он подавился нашим горем! А я еще, дура старая, за него голосовала, горло драла! Всех одурманил своей пьяной мордой, гляди-ка, мол, свой в доску! Простить себе не могу...». Реальность сегодняшнего дня нашего Богом забытого Отечества во всей наготе своей встает перед израненным в ненужных и позорных войнах и едва оставшимся в живых Гошей. Видит он Первопрестольную в зазывных рекламах чуждых России казино и иных «вертепов». Видит он и «зримые плоды» «дерьмократии», пестуемой «всенародно избранным» и его камарильей - «однорукого» мальчика-нищего (он имитирует свое убожество), сидящего в конце подземного перехода на грязной подстилке. И вдруг (вдруг ли?) между этим маленьким нищим и бывшим офицером, уволенным в запас после взрыва чеченской мины «по пожизненной инвалидности», установилась какая-то больная и необходимая связь, и она прорастала с каждой новой встречей все глубже и подчас становилась неодолимой, пронзительно сквозящей, мучила Гошу, и он не знал, что это такое.
Еще совсем недавно боевой офицер, защитник России, он принимает бескомпромиссное решение стать покровителем мальчика, эксплуатируемого, как побирушка и крепостной, мафиозным жлобом, шикарно одетым, вооруженным и ездящим на иномарке. Тайно оберегаемый посторонним дядей мальчик бросается убивать «хозяина», когда тот схватился в смертельном поединке с Гошей. Закабаленное детство ринулось защищать доброту. Но когда, где и как у нас, нашего народа, отобрали эту доброту? А главное, кто отобрал детство у наших детей, у будущего нации? Отобрали те, кто жирует сейчас на вершине власти, чьи дети и внуки там, «за бугром», обучаются ремеслу окончательного убиения России, вскормившей на свою несчастную голову их дедов и отцов-оборотней.
Концовкой рассказа П. Проскурин дает ясный и недвусмысленный прогноз. Увидеть Россию, поруганную ее недругами, державной, единой, непобедимой доведется если не Гоше, то Ваньке (так, оказывается, зовут мальчика-нищенку) - это уж точно. В том убеждают слова маленького мстителя, завершающие рассказ: «Я не маленький! Вы меня еще не знаете, тетенька Ася... да!».
Повесть «Азъ воздам, Господи» являет собой логическое средоточие «прочитанного» нами выше. Будучи талантливым и совестливым писателем, искренне любящим Россию, главный герой Толубьев не приемлет все то, что творят сокрушители и растлители. Им проданы самые ценные для него сокровища - уникальные книги. Проданы за бесценок, так как ему, известному писателю, не на что жить.
Сосед по подъезду, преуспевающий «новый русский» опасается «тлетворного» влияния Толубьева на своего отрока, тянущегося к светлому и праведному писателю. И здесь, в этой повести, П. Проскурин сводит в диалоге людей, коих можно определить «небо» и «земля», «свет» и «мрак»: «Сознайтесь, Родион Афанасьевич, - пытается убедить прохвост Толубьева, - ваш прекраснодушный и романтический мир рассыпался, исчез. Россия теперь другая, теперь главное в России - деньги. Это и сила, и власть...
- Ошибаетесь, господин Никитин! - покачал головой Толубьев. -Россия прежде всего - Бог, а сейчас она в глубоком помрачении, это, поверьте, обязательно пройдет. Вы слишком много на себя берете. Не нами было сказано: «Азъ воздам!»... Так было, так будет всегда: «Азъ воздам!». Ну, а если все повернется по-вашему, то это будет уже не Россия, а нечто иное».
Великий русский философ И.А. Ильин, вынужденно проведший долгие годы вдали от России, искал для себя опору, надежду и утешение в обобщенном взгляде на разрушающееся время, на уничтожение тех ценностей, которые веками копились самой дорогой ценой - ценой человеческих жизней. Он писал: «Тема угасающей России, нравственного и физического вымирания ее народа грозит всем перед лицом Божьим».
Человеческая жизнь, «цена человеческой жизни» - ничто, для «новых бесов», наводнивших Россию, грабящих ее, растаскивающих награбленное по своим многоэтажным и многомерным преисподням. «Господин» Никитин, не отягощая себя даже проблеском мысли о суде Господнем,, по-своему разрешает намечающийся союз ученого-патриота и своего смертельно больного сына Сережи. Трагииность ситуации усиливается тем, что убийство Толубьева совершается в тот самый момент, когда он узнает о свершении своей самой сокровенной мечты - рождении внука: «Толубьев расправил плечи, и в тот же миг тяжелая пуля, вылетевшая из мрака, точно ударила ему в середину лба и, выходя, выломила рваный кусок кости из затылка. Время вспыхнуло, рассыпалось и погасло. Вздернув руки, он обвис на решетке балкона, в одно мгновение разделившей два несовместимых, взаимно исключающих и непрерывно переливающихся друг в друга мира».
В рассказе «Тихая пристань» П. Проскурин тональностью зачина настраивает читателя на «глоток кислорода» после удушающего смрада, заполнившего русскую действительность, то есть, исполняет ту же роль, что и в книге «Огненный ангел» рассказ «Рваное ухо»: «Под карниз дома привычно и ловко метнулась ласточка, повисла на уже наметившейся на фронтоне подковке будущего своего гнезда, добавила в постройку еще один комочек грязи, разгладила его клювиком, радостно щебетнула и вновь умчалась за новой порцией материала - время не ждало, и птичьих хлопот впереди было хоть отбавляй - и гнездо построить, и выстелить его изнутри пухом да сухими травинками...». Намеренно прерываю фразу, ее продолжение снимает ту умиротворенность и душевное равновесие, что сопровождали Кузьмича, героя рассказа, «пытливым взглядом» окинувшего свое хозяйство, наблюдавшего за действиями пернатых зодчих.
Своим «пытливым взглядом» Кузьмич, простой труженик, на каких всегда держалась и сейчас еще чудом держится Россия, охватывает не только свой небольшой двухэтажный дом с балкончиком в сад, на который он «ухлопал лет тридцать в самом мужском расцвете своей жизни», но и далеко окрест. Он убедился, что нельзя верить ни газетам, ни радио, «ни этим бесстыдным крашеным бабам, сутками без устали стрекочущим в своем голубом ящике обо всем на свете». Беспокоит Кузьмича, что все вроде взбесились, молодежь кинулась торговать, каждый, не брезгуя средствами, хочет обустроить себя на всю жизнь в один' момент, и «в Швейцарии или даже за океаном счет миллиардов на десять заиметь, и под Москвой невиданный дворец в месяц или два возвести...».
Вновь проследив за стремительным полетом ласточки, наш герой и не хотел, но задержался взглядом на сказочном дворце в четыре этажа, «возникшем перед изумленными жителями поселка... как бы во сне, вроде бы за одну ночь».
* И не вина, но беда Кузьмича, что его домишко, как то ласточкино гнездо, слепленный «по крошке» за долгие годы, оказался помехой для этого самого сказочного дворца: именно через него должен пройти парадный вьезд в усадьбу «в мавританском стиле». Уже и дом Кузьмичу отгрохали взамен его «гнездышка». Есть в том доме «подвал, мастерская... Газовая колонка. Горячая вода, туалет кафельный». Одним словом - «тихая пристань», по словам «нового хозяина жизни». П. Проскурин вновь обращает внимание читателя на тот беспредел, что происходит в больших и малых городах России, на то, как растаскивается, разворовывается, вывозится за границу народное достояние. И делается все это с ведома и согласия власть предержащих аж до самого верха. Вот он, «новый нерусский», представленный нам бабкой Натальей, женой Кузьмича: «Слышь, Степан, опять этот ирод, Колька Голованов. Слышь, не перечь ты ему, у него, говорят, вся область в кулаке, у него, говорят, сам областной прокурор в кумовьях ходит, вроде у него какая-то алмазная труба в Якутии в кармане. Он, говорят, к самому Бориске Ельцину дверь ногой открывает - бац выступком, и все тебе. А раз народ говорит, так оно и есть. Слышь, может, согласиться? Ну его к лешему, дожить спокойно не дадут...».
Кузьмич уступает всевластному «хозяину российской жизни», переселяется в ненавистный ему новый дом - «тихую пристань», на его счет в сто миллионов рублей идут немалые проценты. Но... «Он худел, остатки волос окончательно выцвели и превратились в легкую дымку, стали невесомы — Кузьмич как-то глянул на себя в зеркало и опешил...».
И вдруг что-то непонятное произошло с Кузьмичем, он вдруг вспомнил о своих орденах и медалях, «а их было ровно одиннадцать», он долго рассматривал их, и неожиданное решение, непонятное ‘пока читателю, принимается безотлагательно: «Кузьмич неожиданно подхватился и, повеселевший, чем окончательно поверг- жену в недоумение, к вечеру уехал в Москву... Вернулся он. только на третий день, молчаливый, осунувшийся... спустился в мастерскую. Оглядевшись, он достал из внутреннего кармана куртки тяжелый сверток, полюбовался новеньким вороненым пистолетом, загнал в него десятизарядную обойму, с удовлетворением подбросил еще раз на ладони и, вновь завернув в промасленную бумагу и тряпицу, спрятал в потаенное пространство между слесарным шкафчиком и стеной, где у него всегда теперь хранились на всякий случай самые дорогие и нужные инструменты».
Нет, не уступит Кузьмич и такие, как он, построенного и завоеванного своей жизнью. В этом убеждает нас концовка рассказа: «...зашелестел крупный косой дождь, и следом рванул шквальный ветер. Кузьмич почувствовал, что его сбивает с ног какая-то бешеная шалая сила, но устоял, с места не сдвинулся, лишь подртавил лицо хлынувшему с неба потопу».
Сам Петр Проскурин о книге «Азъ воздам, Господи» говорил следующее: «В ней я размышляю о том, что сейчас происходит с нашим обществом, с нашим народом. В общем-то оптимизма у меня там мало. Я, не желая что-то предрекать, хочу сказать, что предстоит очень и очень трудный период русской жизни, русского пути. Слишком глубоко зашло разрушение. А спасение только в осознании своего национального пути, своего национального характера. Спасение придет только тогда, когда русский народ осознает себя историческим народом, как это было раньше и чего попытались его лишить».