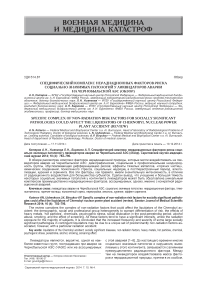Специфический комплекс нерадиационных факторов риска социально значимых патологий у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Автор: Котеров А.Н., Ушенкова Л.Н., Бирюков А.П.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Военная медицина и медицина катастроф
Статья в выпуске: 4 т.10, 2014 года.
Бесплатный доступ
В обзоре рассмотрен комплекс факторов нерадиационной природы, которые могли воздействовать на ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС: демографическая, социальная и профессиональная неоднородность группы, обусловливающая дифференциацию рисков; эффекты тяжелых металлов, «горячих частиц», химических соединений, психогенного стресса, социальных неурядиц в постперестроечный период, алкоголизации, курения и скрининга. Все эти факторы, как правило, имели значительную интенсивность, в отличие от радиационного воздействия для большинства субъектов. Сделан вывод, что учащение и большая тяжесть некоторых социально значимых патологий у контингента ликвидаторов может быть обусловлена уникальным комплексом преимущественно нерадиационных факторов, ассоциируемых, однако, именно с конкретной радиационной аварией.
Алкоголь, горячие частицы, курение, ликвидаторы аварии на чернобыльской аэс, нерадиационные факторы, перестройка, психогенный стресс, социально значимые патологии, тяжелые металлы, эффект скрининга
Короткий адрес: https://sciup.org/14918053
IDR: 14918053
Текст научной статьи Специфический комплекс нерадиационных факторов риска социально значимых патологий у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
с этой аварией [1–8]. До настоящего времени многие социально значимые патологии и нарушения, выявляемые у этого контингента, связываются с влиянием преимущественно радиационного фактора. Между тем на ликвидаторов воздействовала масса факторов и нерадиационной природы, причем в их особом, специфическом комплексе. В представленном обзоре рассмотрены медицинские и эпидемиологические эффекты наиболее вероятных факторов, которые могли воздействовать на ликвидаторов, с привлечением данных о молекулярных и клеточных механизмах, обусловливающих возможные эффекты.
Исчерпывающее изложение данного материала в рамках единого объединяющего обзора (полных аналогов пока нет ни в отечественной, ни в зарубежной литературе) стало возможным в том числе благодаря публикации в последние годы ряда важных монографий по основным аспектам аварии на ЧАЭС.
Демографическая, социальная и профессиональная неоднородность группы ликвидаторов аварии на ЧАЭС как фактор, обусловливающий дифференциацию рисков для здоровья
Несмотря на наличие единого объединяющего термина и понятия, эта группа отличается значительной неоднородностью по самым различным показателям, как физиологического, профессионального и социального плана, так и применительно к конкретно выполненным работам (включая хронологию занятости), а также возможности воздействия интегрального спектра неблагоприятных факторов. Все это обусловливает разные риски возникновения социально значимых заболеваний как радиогенной, так и нерадиогенной природы.
Демографическая неоднородность общей когорты ликвидаторов в первую очередь обусловлена тем, что в ликвидации последствий аварии участвовали представители всех регионов бывшего Советского Союза. Согласно приказу МЧС РФ № 727, Минздравсоцразвития РФ № 831, Минфина РФ № 165н от 08.12.2006 (в ред. от 24.06.2009) «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» (зарегистрировано в Минюсте РФ 05.02.2007 № 8898) участниками ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (с выдачей удостоверения) признавались:
— граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986– 1987 гг. участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
— военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ;
-
— лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986–1987 гг. службу в зоне отчуждения;
-
— граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988–1990 гг. в работах по объекту «Укрытие»;
— младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 г. лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;
-
— граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1988– 1990 гг. участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
-
— военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1988– 1990 гг. службу в зоне отчуждения;
— члены семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, указанные в части второй статьи 15 Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244–1.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, к ликвидаторам можно отнести достаточно широкий круг персоналий. Социальная и профессиональная неоднородность суммарной когорты также очевидна. Тем не менее в радиационноэпидемиологической практике под ликвидаторами подразумеваются лица, работавшие в 1986–1989 гг. (иногда период выполнения ликвидаторами их функций распространяют вплоть до 1990 г. и даже до распада СССР в 1991 г. [3, 6, 7]), как правило, внутри 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС. Из приведенного документа следует, что среди них были как гражданские лица, так и значительная часть (до 40% [3]) военнослужащих. Когорту ликвидаторов можно подразделить также на несколько сравнительно однородных групп [1, 9–14]:
— персонал ЧАЭС, работавший на станции с 26 апреля 1986 г. по 1988 г., когда были завершены основные аварийные работы;
-
— состав воинских частей и формирований Министерства обороны бывшего СССР, включая резервистов;
-
— работники учреждений и ведомств, командированные в 30-километровую зону для выполнения заданий при противоаварийных и восстановительных работах и для оказания научно-технической помощи;
-
— персонал управления строительства № 605 Министерства среднего машиностроения вместе с прикомандированными к нему работниками, выполнявший комплекс работ по сооружению «саркофага» над разрушенным IV реактором;
-
— работники предприятий атомной промышленности и АЭС России.
Число ликвидаторов в зависимости от источника может варьировать от нескольких сотен тысяч до порядка миллиона [8]. К примеру, в западных источниках фигурируют фразы об общем числе ликвидаторов в 600 тыс. [3, 5, 8] и даже в 800 тыс. [5, 8, 15] человек. Обе эти величины, по данным Л. А. Ильина [1], являются сильно завышенными. «800 тыс. человек» появились, вероятно, вследствие того, что всего в СССР было роздано (причем еще до принятия За- кона о социальной защите ликвидаторов») более 800 тыс. соответствующих удостоверений.
Что же касается величины в «600 тыс. ликвидаторов», то она появилась, согласно Л. А. Ильину, скорее всего вследствие «небрежности корреспондентов, терминологических неточностей и неверного перевода», в результате чего к ликвидаторам отнесли все население районов жесткого контроля и эвакуированных из 30-километровой зоны [1]. Тем не менее суммарная величина в «600 тыс. ликвидаторов» фигурирует в таких документах международных организаций, как Научный комитет по действию атомной радиации ООН (НКДАР-2000 [3]) и Комитет АН США по биологическим эффектам ионизирующей радиации (BEIR-VII [5]).
В целом следует указать, что истинная численность ликвидаторов остается точно не известной, в частности, вследствие наличия значительного контингента военных ликвидаторов, сведения для которых долго были недоступны [1]. Л. А. Ильин в 1995–1996 гг. в качестве наиболее реалистичной оценки численности суммарной когорты ликвидаторов называл порядка 300 тыс. человек [1]. При этом в 1986–1987 гг. на станции и в 30-километровой зоне вокруг нее работали, согласно Л. А. Ильину с соавторами, около 230 тыс. ликвидаторов [2]. В НКДАР-2000 [3] фигурирует число 226 тыс. ликвидаторов, занятых в 30- -километровой зоне в 1986–1987 гг., и общее количество в 400 тыс. человек (причем НКДАР опирался на данные Л. А. Ильина, В. П. Крючкова и других сотрудников Института биофизики Минздрава РФ [1, 2]). ВОЗ в 2006 г. называет 400 тыс. человек в 30-километровой зоне уже только для периода 1986 — 1987 гг. [6, 7, 16]. А в BEIR-VII США (2006 г.) для этого же периода фигурирует значение в 200 тыс. человек [5].
Среди всей когорты женщины-ликвидаторы составили малый процент. Можно встретить упоминание об 1 %-м [8, 17], 3,1%-м [16] и 5%-м [5] вкладе.
В 1986 г. в Обнинске был создан Всесоюзный медико-дозиметрический регистр лиц, подвергшихся радиационному воздействию (в СССР), который включал не только ликвидаторов, но также эвакуированных и жителей загрязненных областей. Регистр существовал до конца 1991 г., а начиная с 1992 г., в связи с распадом СССР, он был заменен национальными регистрами России, Белоруссии, Украины и Прибалтийских государств [1, 3]. Численность лик- видаторов в этих регистрах варьирует от источника к источнику. Так, регистр ликвидаторов России представлен, по одним данным, 148 тыс. человек [3, 18], по другим — 175 тыс. человек [19] и по третьим — 187451 человек на 2006 г [20], Украины — 170-174 тыс. человек [3, 19, 21, 22], а Белоруссии, по разным данным, 63 тыс. [3] и 91 тыс. [18] человек.
К этому примыкают когорты ликвидаторов Прибалтики, численностью: 7152 (для Литвы), 5709 (для Латвии) и 4844 (для Эстонии) [3]. Понятно, что нельзя абсолютизировать и эти цифры.
Часть ликвидаторов находится в других республиках бывшего СССР. Соответствующие упоминания можно найти в Интернете (нередко со ссылкой на национальные общественные организации по Чернобылю; соответствующие же научные источники нам неизвестны). Данные представлены в табл. 1.
Таким образом, исходя из приведенных оценок, можно составить представление о границах численности ликвидаторов по каждой стране. Оно вряд ли окажется далеким от истины, но оценки будут иметь разбросы вплоть до десятков тысяч.
Что же касается особого контингента ликвидаторов — работников предприятий атомной индустрии и АЭС, то относительно их численности можно дать следующую информацию [13]. В 1989 г. в соответствующем регистре было учтено 17579 человек (14892 мужчины и 2687 женщин). В 2003 г. число их уменьшилось до 11944 человек (10029 мужчин и 1915 женщин), поскольку остальные выбыли из-под наблюдения. Большая часть регистра представлена мужчинами: в 1989 г. они составляли 84,7% взрослого контингента (женщины 15,3%), в 2003 г. — 84,0% (женщины 16,0%). Средний возраст мужчин-ликвидаторов из профессионального контингента на момент пребывания в 30-километровой зоне составлял 36,1 года, а женщин 38,8 года.
В [13] представлены также данные о неоднородности этой когорты по половозрастному признаку в течение всего периода наблюдений (1989–2006 гг.), а также по накопленным дозам.
Рассмотренные неоднородности в плане демографических, социальных и профессиональных вариаций внутри общей когорты ликвидаторов, вкупе с более интенсивным контактом с радиационным фактором для некоторых подкогорт (профессионалов-атомщиков), могут обусловливать различные
Таблица 1
Когорты ликвидаторов в некоторых республиках бывшего СССР по данным электронных СМИ (дата обращения к источникам Интернета: 18.11.2014)
риски возникновения социально значимых заболеваний для представителей разных страт. В то же время имеется определенный комплекс радиационных и нерадиационных факторов, с которыми могли сталкиваться почти все ликвидаторы-мужчины.
Эффекты тяжелых металлов и «горячих частиц»
Тяжелые металлы — значительные факторы риска серьезных патологий, причем не только печени и почек, но также и ЦНС [26–28]. В прошлые века существовало понятие «безумный шляпник», которое сформировалось на основе соответствующей профессиональной патологии, возникающей вследствие того, что изготовление цилиндров требовало обработки ртутью (английская поговорка: «безумен, как шляпник» — «mad as a hatter») [29].
Между тем, хотя в начальный период после аварии на ЧАЭС фактор тяжелых металлов и так называемых «горячих частиц» освещался достаточно широко [30–32], в последние десятилетия как в научных источниках, так и в СМИ, он не только отошел на второй план по сравнению с радиационным, но даже не всегда и упоминается (исключение составляют фундаментальные монографии [7, 33]). И это при тех многих тоннах свинца, которые были сброшены в жерло реактора в первый месяц после аварии [1, 7, 33].
Согласно [7], уже в июле 1986 г. Киевская областная СЭС обнаружила в атмосферном воздухе свинец в концентрациях в 1,5–10 раз превышающих ПДК в Полесье и до 5 раз в Чернобыле. Несколько позже, в сентябре 1986 г., при исследовании проб воздуха сотрудниками института биофизики МЗ СССР в Чернобыле и вахтовых поселках выявлено значительное превышение ПДК для свинца как в одном из поселков, так и на промплощадке станции (особенно высокий уровень свинца оказался в машинном зале и в I и II энергоблоках) [7].
Как указывают авторы [7], наблюдалась высокая загрязненность свинцом поверхностей оборудования и строительных конструкций ЧАЭС и, особенно, территории станции. В помещениях машинного зала I и II энергоблоков максимальные уровни свинца на оборудовании и строительных конструкциях составляли 0,01–0,012, а на полу 0,12 мг/м2. Поверхность пола была загрязнена свинцом в 10 раз больше по сравнению с оборудованием. Более чем в 100 раз по сравнению с обстановкой в помещениях энергоблоков было загрязнено оборудование (6,0 мг/дм) и строительные конструкции (1,2 мг/дм) на территории промплощадки ЧАЭС [7].
Между тем при профессиональных воздействиях тяжелых металлов продемонстрированы генетические и хромосомные эффекты как для спермы [34– 36], так и для потомства [34, 37, 38]. Это не кажется удивительным, поскольку эффект тяжелых металлов на частоту мутагенеза в различных локусах ДНК [39] и на частоту аберраций хромосом [40] продемонстрирован отчетливо.
Чернобыльские эффекты тяжелых металлов могли иметь особую специфичность, обусловленную в том числе тем, что они входили с состав так называемых «горячих частиц» — частиц диспергированного вещества, образовавшегося в межгранулярных пустотах топливной композиции за время аварии и ее ликвидации. Помимо плутония, в состав «горячих частиц» могли входить свинец и другие химические соединения. Роль радионуклидных маркеров топливных частиц играли изотопы тугоплавких элементов:
Zr, Nb, Ce, Pu, которые в условиях Чернобыльской аварии не встречались в составе аэрозолей конденсации [7, 30–33, 41].
В монографии [7] отмечается, что «горячие аэрозольные частицы» относятся к одному из двух следующих типов: а) к частицам с радионуклидным составом (в первую очередь по тугоплавким радионуклидам), незначительно отличающимся от такового для усредненного изотопного состава топлива реактора IV блока ЧАЭС; б) к частицам, активность которых обусловлена легкоплавкими радионуклидами (чаще всего одним-двумя).
Дозовая нагрузка для первых участников ликвидации аварии на ЧАЭС была обусловлена, вероятно, поступлением радиоактивных веществ в организм в виде одного из двух упомянутых видов аэрозолей. Это весьма продлевало период полувыведения из организма, в частности, для 137Cs [7]. Кроме того, в топливных «горячих частицах» отдельные радионуклиды, включенные в топливную матрицу, могли не проявлять своих индивидуальных биокинетиче-ских свойств. Они подчинялись общей с топливной матрицей закономерности выведения из организма [33].
Весьма важно отметить, что воздействие радионуклидов в составе «горячих частиц» могло, как предполагалось, обусловливать также специфичные типы повреждений хромосом. Подобные частицы могут обладать очень высокой активностью и создавать вокруг себя высокие локальные дозы облучения [42]. К примеру, в ткани легких «горячие частицы» диаметром 2 мкм и активностью 260 Бк обеспечивают мощность дозы на непосредственно окружающие ткани порядка 9 кГр/ч; на расстоянии 10 мкм — 60 Гр/ч и 50 мкм — 1,5 Гр/ч [42, 43]. Полагают, что столь высокие дозы локального облучения могут индуцировать в отдельных клетках множественные аберрации хромосом (мультиаберрантные клетки), с чем некоторые авторы и связывают появление подобных цитогенетических повреждений у пострадавших в результате аварии на ЧАЭС [42, 44, 45]. Разумеется, аналогичная локальная картина может иметь место и для особо выраженного повреждения клеточного микроокружения входящим в состав «горячих частиц» свинцом.
Таким образом, эффекты тяжелых металлов и «горячих частиц» на ликвидаторов могли не только вызывать неспецифические нерадиационные патологии печени, почек и ЦНС, но и приводить к мутагенным и канцерогенным последствиям. Причем эти последствия не обязательно были обусловлены воздействием радиоактивного излучения как такового.
Эффекты других химических соединений
Растворители и другие органические и неорганические соединения способны вызывать самые различные патологии как у подвергавшихся подобным воздействиям, так и у их потомства. Эти соединения при профессиональном воздействии на отцов могут иметь мутагенный и тератогенный эффект [46, 47]. Перечень химических агентов, обладающих указанным действием, весьма обширен. Это и хлорвинил, и бензол, и хлоропрен и петролейный эфир, и этиленгликоль, и фенол, и стерол, и формальдегид и множество других [40, 46, 48–50].
У ветеранов Вьетнамской войны, подвергавшихся воздействию газа Оранж, продемонстрирована повышенная частота дефектов у потомков [51].
Формальдегид способен индуцировать злокачественные новообразования [52].
Хроническое воздействие растворителей приводит не только к тканевым патологиям внутренних органов, но и к нарушениям ментальных функций [53, 54].
Экспозиции асбестовыми частицами могут индуцировать рак легкого и мезотелиому [55].
Практически все названные агенты входили в тот множественный спектр соединений, с которыми сталкивались ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Причем уровень экспозиции мог быть весьма высок [1, 7, 33]. Так, в г Чернобыль в сентябре 1986 г. в 10,5% проб атмосферного воздуха обнаружен формальдегид в концентрациях, превышающих ПДК. В 1986–1987 гг. ликвидаторы подвергались также воздействию группы и других факторов, которые возникали вследствие радиолиза, фотохимических реакций и в результате пожаров. Это ионизация воздуха (в 1000–100,000 раз превосходившая ПДК), озон, азотная кислота, фосген и т.д. [7].
Показано, что помимо радиационного загрязнения промплощадки и помещений ЧАЭС имело место также серьезное загрязнение химическими агентами. К их числу относятся следующие вещества: окись углерода, щавелевая кислота, двуокись азота, формалин, фосген, карбомидные смолы, цианистый водород, нефтешлаки, свинец (эффекты рассмотрены в предыдущем разделе), озон, сульфитно-спиртовая барда, ионные и неионные детергенты, соляная кислота, бор и др. [33].
Почти все перечисленные агенты обладают токсическо-патогенным и/или генотоксическим эффектом. Это касается алкилирующих соединений, нитро- и нитрозосоединений и пр. Некоторые химические соединения, не обладающие способностью генерировать свободные радикалы и активные формы кислорода, в результате клеточного метаболизма могут активироваться и приобретать генотоксические свойства (пример: продукт горения бенз (а) пирен). Особого внимания заслуживает также такой мутаген, как продукт горения диоксин [47, 50].
В свете изложенного не кажется удивительным, что многие социально значимые патологии, считавшиеся специфическими для радиационного фактора применительно к контингенту ликвидаторов аварии на ЧАЭС, вызываются на самом деле сопутствующими химическими воздействиями. Это касается, как оказалось, даже стохастических эффектов: раков, лейкозов и наследственных генетических изменений [47, 50, 56, 57].
В данном контексте уместно привести результаты исследования здоровья английских подводников [58, 59]. Хотя в этих работах не удалось найти сведений о типе подлодок (атомные или дизельные), следует учитывать, что у Великобритании атомный флот насчитывает всего несколько единиц. Таким образом, публикации [58, 59] касаются, очевидно, контингента преимущественно дизельных субмарин. Для этой группы не было обнаружено превышения смертности ни от раков, ни от каких-либо иных заболеваний сравнительно с генеральной популяцией, но выявился избыточный риск заболеваний желудочно-кишечного тракта и, особенно, цирроза печени [58, 59]. Поскольку смертность от травм и отравлений после оставления службы у английских подводников также была несколько повышена, можно было бы сделать вывод о влиянии фактора алкоголизации (рассмотрен далее). Но полностью исключить роль химического воздействия (горючесмазочные вещества и продукты их горения в замкнутом пространстве подлодки) все же нельзя. При этом на японской когорте пострадавших от атомных бомбардировок было выявлено зависимое от оцененной дозы облучения увеличение частоты в том числе цирроза печени [60], но, вероятно, это одна из специфических особенностей японской нации (особо высокий уровень заболеваний желудочно-кишечного тракта [25]).
У российских ликвидаторов аварии на ЧАЭС в работе [61] также был отмечен некий тренд от дозы для повышения риска заболеваний органов пищеварения, причем избыточный относительный риск составил 0,24. Такие заболевания занимали третье место среди всех причин (после патологий системы кровообращения и костно-мышечной системы) [62].
Психогенные факторы
Психогенный стресс и иерархия воспринимаемых рисков у контингента ликвидаторов
Важная роль психогенного стресса в формировании последствий аварии на ЧАЭС (в том числе применительно к ликвидаторам) неоднократно рассматривалась в публикациях отечественных [1, 63–70] и зарубежных [71–78] авторов.
Существует ряд исследований, в которых обнаружено учащение психогенных стрессов, тревожно-депрессивных расстройств, астеноневротической патологии и тому подобных отклонений у ликвидаторов [64, 67–72, 74, 76, 77]. Посттравматические стрес-сорные нарушения, включая аномалии в социальном функционировании, показаны у ликвидаторов через 15–17 лет после аварии на ЧАЭС [64]. Сходным образом через 20 лет после аварии обнаружены стрес-собусловленные познавательные и психологические нарушения. Частота депрессий, тревожности (особенно как симптомов посттравматического стресса) и необъяснимые с позиции традиционной медицины физические и физиологические нарушения встречались в 2–4 раза чаще по сравнению с контролем (при этом частота диагностированных психических патологий повышена не была). Сильные эмоциональные стрессы обусловливают у ликвидаторов избыток суицидов [74, 76, 77].
Исследователями [72] были рассчитаны риски психических и психосоматических расстройств у латвийских ликвидаторов с 1986 по 1995 г. Относительные риски для работ разного профиля и длительности составили от 1,4 до 1,7.
В цитированных публикациях не раз подчеркивается, что первичный эффект на здоровье ликвидаторов обусловлен психологическим стрессом. Именно психоневрологические синдромы дали необъяснимые с медицинских позиций физические симптомы, включая усталость, расстройство сна и настроения, нарушение памяти и концентрации, а также мускульную боль и/или боль в суставах [73, 76]. Указанные нарушения, как полагают, скорее всего не являются прямым эффектом облучения, поскольку отсутствуют соответствующие дозовые зависимости [73].
Характерно, что тревожно-депрессивные состояния у ликвидаторов имеют в своей основе постоянное ожидание радиационных последствий; ухудшающееся вследствие этого здоровье по замкнутому кругу усиливает тревожные состояния и т.д. [65–68].
Есть сведения и о сексуальных нарушениях, причем их вновь связывают со стрессами психогенной природы. Согласно источнику, приведенному в монографии [79], в генезе сексуальных расстройств у ликвидаторов существенное значение имеют нарушения в гипоталамо-гипофизарной системе, на состояние которой, в свою очередь, оказывает негативное влияние обнаруженный у них психологический стресс.
В результате может страдать и качество спермы. Важно отметить, что психоэмоциональный стресс способен повреждать сперму (некроз, апоптоз, дисомия, диплоидия) [80]. Специальное исследование показало, что сперма изученной группы ликвидаторов действительно имела отклонения от нормы [81].
Понятно, что пребывание в стрессе, в его последствиях и психологическое неблагополучие ликвидаторов с неизбежностью отражались на психоэмоциональной среде в их семьях. Психогенный стресс вполне мог затронуть как жен ликвидаторов, так и их детей.
В информативной монографии Г. М. Румянцевой с соавторами [65] отмечается ряд принципиальных моментов:
«Оценка состояния здоровья пострадавших в радиационно-токсической катастрофе не может проводиться только исходя из влияния одного фактора — радиационного. В случае чернобыльской катастрофы необходимо учитывать еще два обстоятельства, оказавших не меньшее влияние на состояние психического и физического здоровья:
-
а) ликвидаторы, принимали участие в преодолении не просто радиационной аварии, а крупнейшей экологической катастрофы современности, и на них оказывали патогенное влияние все факторы этой катастрофы, в том числе и социальная оценка катастрофы;
-
б) катастрофа произошла в кризисный период разрушения государства, и стрессовые составляющие кризиса наиболее болезненно сказались на контингентах, сенсибилизированных эффектами самой аварии.
Таким образом, состояние пострадавших в радиационно-токсической катастрофе — это сумма влияния трех составляющих: радиационной, катастрофной и социально-экономической. Каждая из них объективно редуцирует психологические и социальные ресурсы преодоления любого стресса. Потеря социально-экономического статуса, субъективно связываемая с последствиями радиационной аварии, потенцирует неблагоприятные эффекты для психического здоровья пострадавших. Только анализ всего комплекса стрессовых факторов позволяет определить особенности реакции на них и степень ущерба, нанесенного психическому здоровью вовлеченных» (конец цитаты [65]).
Кажется ясным, что любая из перечисленных в [65] составляющих вполне способна отразиться на учащении весьма многих социально значимых патологий. И действительно, ликвидаторы — та из групп пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, у которой обнаружены наиболее выраженные нарушения психической адаптации [65]. В специальном исследовании 2006 г. [65] было изучено восприятие риска от радиации и психологических особенностей стратегии адаптации у ликвидаторов-инвалидов (по соматическим заболеваниям) вследствие аварии на ЧАЭС. Около 90% индивидуумов считали состояние своего здоровья худшим, чем у сверстников, а 66% значительно худшим. При этом мужчины-ликвидаторы оценивали свое здоровье более негативно, чем женщины. Характерно, что среди пострадавшего населения была отмечена противоположная зависимость [65], и это еще раз указывает на специфические особенности когорты именно ликвидаторов.
Уровень психических расстройств невротического характера у ликвидаторов-инвалидов Москвы составлял 95,5% (случаи с выраженными психическими нарушениями — 57,6%). Среднее число соматических заболеваний на одного больного составляло 6,1. Наиболее распространенными являлись заболевания сердечно-сосудистой и цереброваскулярной сфер, эндокринные болезни, заболевания суставов и позвоночника. Среди психических нарушений преобладали соматизированные расстройства, что было обусловлено характером самого психотравмирующего фактора и указывало на тесную взаимосвязь психических расстройств с нарушениями соматического здоровья ликвидаторов. В случае выраженных клинических нарушений почти вчетверо возрастал показатель депрессии. Таким образом, даже спустя почти два десятилетия после аварии радиационный риск для исследованного контингента находился на первом месте в ряду других витальных опасностей [65].
В весьма показательной табл. 2 (несколько модифицированный в плане отображения материал взят из монографии [65]) представлено восприятие риска от различных бытовых и профессиональных факторов ликвидаторами-инвалидами Москвы.
Таблица 2
Восприятие риска от радиации в ряду других витальных опасностей у ликвидаторов-инвалидов (баллы)
|
Витальная опасность |
Средний показатель (отн. ед.) |
Ранговое место в ряду опасностей |
|
Радиационные воздействия при ликвидации аварии на ЧАЭС и других радиационных инцидентах |
3,9 |
1 |
|
Лишения, вызванные ростом цен |
3,6 |
2 |
|
Все виды загрязнений окружающей среды |
3,5 |
3 |
|
Транспортное движение |
3,0 |
4 |
|
Преступления, связанные с насилием |
2,9 |
5 |
|
Национальные конфликты |
2,5 |
6 |
|
Несчастный случай в быту |
2,5 |
7 |
|
Курение |
2,3 |
8 |
|
Профессиональные вредности, не связанные с аварией на ЧАЭС |
2,3 |
9 |
|
Употребление алкоголя |
2,0 |
10 |
|
СПИД |
2,0 |
11 |
П р и м е ч а н и е : *Модифицированная таблица из [65]: по сравнению с оригиналом изменены компоновка и полнота (не представлены стандартные отклонения).
Из приведенного материала следует очевидная аберрация восприятия рисков у обследуемого контингента. Долгое время единственным признанным международными организациями, имеющими дело с радиационными воздействиями (НКДАР, МКРЗ (Международная комиссия по радиационной защите) и BEIR), эффектом аварии на ЧАЭС являлись раки щитовидной железы у детей [1–5, 63]. В последние годы появился ряд работ (изданы уже после проведенного в [65] психологического исследования ликвидаторов), в которых утверждается также об учащении раков щитовидной железы и лейкозов у ликвидаторов [20, 82–86] (положение вошло даже в постановление Российского комитета по радиационной защите (РКРЗ) [87]). Однако радиационная атрибутивность в данном плане, учитывая отсутствие подобных эффектов при воздействии радиации в аналогичных дозах на взрослый нечернобыльский контингент [25, 88], пока не представляется доказанной.
Как отмечено, основные публикации по ракам щитовидной железы у ликвидаторов появились после упомянутого опроса ликвидаторов-инвалидов, и единственными во время его проведения доказанными эффектами Чернобыля были раки щитовидной железы у детей в пострадавших регионах. Тем не менее из табл. 2 видно, что ликвидаторы этим данным совокупной мировой радиационной эпидемиологии и радиационной медицины не доверяли. Они помещали эффекты аварии на ЧАЭС на первое место среди всех мыслимых опасностей. А вот факторы, имеющие действительную опасность в том числе для них самих (алкоголь и курение), оказались по рангам на последних местах. При этом в [65] указано, что большинство ликвидаторов, у которых проводился опрос, были курящими.
В [65] отмечается по данному поводу: «Указанный феномен может служить основой для формирования патологических психических реакций на любое воздействие, ассоциирующееся с этим первичным риском. Наиболее вероятными декомпенсирующими событиями могут стать ухудшение здоровья или вновь возникшие заболевания, ассоциируемые с этим риском, а также любые, даже минимальные и экономически не существенные изменения компенсационных мер и социальных льгот, имеющих «чернобыльскую» принадлежность».
Все изложенное делает понятным повышенный уровень суицидов у контингента ликвидаторов, а также увеличенную смертность от травм и отравлений [74].
Весьма показательным кажется то, что гипотеза, будто профессионалы оценивают опасность пострадать от радиации ниже, чем непрофессионалы, не подтвердилась. Ликвидаторы, сталкивавшиеся с воздействием радиоактивных веществ в своей повседневной жизни в качестве профессиональной вредности (т.е. в том числе работники предприятий атомной индустрии), «достоверно более высоко и единодушно оценивали опасность радиационного воздействия именно в Чернобыле, чем лица, имевшие другие профессиональные вредности или не сталкивавшиеся с ними вовсе» [65].
Вместе с тем исследования восприятия риска от радиации у профессиональных контингентов работников атомной индустрии немногочисленны и фрагментарны, а их результаты неоднозначны. Так, рассматривая различия в оценке радиационного риска населением и специалистами, исследователи сделали заключение, что население воспринимает его прежде всего как риск для своего здоровья, здоровья своих детей и близких. Сам термин «радиационный риск» воспринимается как неизбежное, фатальное, негативное последствие от любого радиационного воздействия. В отличие от населения, специалисты подразумевают под риском вероятное, но необязательное возникновение неблагоприятных эффектов. Такое отличие в восприятии может быть связано в первую очередь с наличием вербальных и невербальных образов и понятий, выработанных и присвоенных в ходе профессиональной деятельности, оперируя которыми проще когнитивно переработать угрозу [65].
На 1999 г. в Российском государственном медико-дозиметрическом регистре было отмечено четырехкратное превышение уровня психических нарушений у участников ликвидации аварии над спонтанными показателями интактного населения того же возраста. А. П. Бирюковым и соавторами в 2001 г. [89] продемонстрировано, что к указанному периоду отмечается снижение выявляемости психических расстройств. Последнее, вероятно, не отражает истинного положения с распространением психических нарушений, поскольку у ликвидаторов-инвалидов, учтенных в регистре, психические заболевания находились на третьем месте (12,6%). Такая разнонаправленность показателей психических нарушений объясняется скорее всего тем фактом, что в первичном выявлении болезней специалист-психиатр участия не принимал, а в оценке состояния больного при вынесении решения об инвалидности участие психиатра и психолога было почти обязательным. О недостаточном участии специалистов в диагностике говорит и тот факт, что среди психических расстройств каждый второй диагноз был «ней-роциркуляторная астения», что не соответствовало действующей классификации.
В этом же исследовании отмечен факт, имеющий значение для формирования определенного класса психических расстройств у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС: самый высокий показатель относительного риска возникновения и развития имели цереброваскулярные заболевания [65, 89], т.е. одни из самых социально значимых патологий.
Социально значимые заболевания, которые могут быть обусловлены психогенным стрессом
Известна тесная ассоциация между смертностью от рака и уровнем депрессии [90]. Эти данные подтверждаются и в опытах на крысах [91]. Отмеченная связь не кажется удивительной, поскольку известен даже кластогенный эффект психоэмоционального стресса. К примеру, было обнаружено, что различный психоэмоциональный стресс, как для грызунов, так и для человека (при стрессе без психопатологий и без психических заболеваниях), через опосредование активными формами кислорода приводит к повреждениям ДНК генома, к нарушениями репарации ДНК, к хромосомным и хроматидным аномалиям, включая аберрации, хроматидные обмены и пр., причем как в делящихся, так и в неделящихся клетках (подробнее см. в обзоре [57]).
Влияние психоэмоционального стресса и депрессивных состояний на развитие сердечно-сосудистых и цереброваскулярных патологий не может подвергаться сомнению [92, 93]. Таково же влияние и на возникновение патологий желудочно-кишечного тракта [94]. Известно влияние нервного стресса на рост волос и облысение, подтвержденное экспериментально [95].
Множество неспецифических патологий могут иметь причиной подавление системы иммунитета при перманентном нахождении в психоэмоциональном стрессе [96] (известны многолетние исследования иммунного статуса ликвидаторов, которые выявляют нарушения различных уровней значимости [63, 97]).
В работе Ю. Н. Корыстова (1997) были обнаружены корреляционные и причинные связи в том числе между эмоциями и развитием рака [98].
В монографии Г. М. Румянцевой с соавторами [65] отмечается: «Радиационная авария или инцидент представляют собой психическую травму со сложной конфигурацией специфических травмирующих воздействий, выходящих за рамки обыденного человеческого опыта, которая может приводить к формированию травматического дистресса в виде особой нозологии — посттравматического стрессового расстройства, которое может утяжелять течение других нервно-психических и соматических заболеваний, снижать адаптационные возможности пострадавших».
И еще [65]: «Психологические эффекты радиационных аварий носят неспецифический стохастический характер. Специфическим (радиационным) является лишь содержание переживаний. Ведущий повреждающий фактор — совокупность информации. Подобно тому как биологические эффекты зависят от условий радиационного воздействия (вида излучения, времени, индивидуальной чувствительности и т.п.), психологические эффекты зависят от условий получения информации в широком смысле (внутренних, внешних, временных) и способности индивида к ее переработке».
Стресс может отражаться на нейрогуморальном статусе и провоцировать развитие даже тиреоидных патологий. Так, В. П. Антонов еще в 1987 г. [99] указывал, что главными проблемами последствий катастрофы «…являются психологические проблемы, последствия которых могут оказаться неизмеримо более неблагоприятными». Автор полагал, что даже тиреоидная патология, безусловно радиогенной природы, требует разграничения и изучения стрессогенного вклада в ее происхождение [99].
Можно сделать вывод, что практически нет таких заболеваний, относящихся к радиационнообуслов-ленным, которые не могли бы в той или иной степени вызываться и психоэмоциональным стрессом. К примеру, у ветеранов подразделений особого риска наблюдается спектр соматических заболеваний [100], вполне сходный с зарегистрированным у ликвидаторов [61]. Это не должно, конечно, удивлять, поскольку среди контингента особого риска имеются многочисленные группы с воздействием радиационного фактора: участники ядерных испытаний на Семипалатинском и Новоземельском полигонах, участники Тоцких войсковых учений с применением ядерного оружия, ликвидаторы радиационных аварий на атомных подводных и надводных кораблях, сборщики ядерных зарядов, лица, работавшие с боевыми радиоактивными веществами, участники ликвидации других ядерных аварий или испытаний и пр. [100]. Однако сходный спектр патологий выявляется и у особых контингентов, с радиационным фактором никак не контактировавших, таких, к примеру, как спасатели и специалисты противопожарной службы России [101].
Психоэмоциональный стресс и вызываемые им соматические заболевания могут обусловливать также несколько ускоренное старение ликвидаторов [102–104].
Социальные факторы в постперестроечный период
Отчасти этот вопрос уже затрагивался при изложении исследований Г. М. Румянцевой с сотрудниками [65].
Ведущими российскими авторами признается весьма важная роль нерадиационных, социальных факторов как атрибутов риска различных патологий, связываемых с аварией на ЧАЭС.Ильин Л. А., 1996 [1]:
«Административные, политические, социальные, нравственные, этические, экономические и многие другие стороны жизни нашего общества оказались, по существу, в орбите этой катастрофы и проявились полностью и недвусмысленно».
«…Необходима предельная объективность и честность, так как вопросы заболеваемости, наряду с сугубо медицинскими аспектами, во многих случаях приобрели и явную социальную окраску».
«…Все это способствует появлению и проявлению целого ряда отклонений в состоянии физического и психического здоровья у многих людей, которые однозначно увязываются с губительным действием облучения, обусловленного Чернобылем. Все это усугубляется сложнейшей социально-психологической обстановкой, возникшей в связи с событиями после аварии. Множество людей оказалось в состоянии перманентного стрессового воздействия самых разнообразных, взаимоутяжеляющих факторов».
«Все иные формы патологии, прямая зависимость которых с воздействием излучения современной наукой не доказана (по крайней мере на данный момент), требуют в принципе аналогичного популяционного подхода и длительного периода наблюдения. Главное то, что в этих случаях необходим всесторонний анализ влияния множества факторов как общемедицинского, так и социально-экономического характера. К их числу следует отнести влияние психоэмоциональных, стрессовых факторов, качества питания, экологической обстановки, состояния медицинской помощи, социальной обеспеченности и защищенности людей и многое другое».
Ярмоненко С. П., 2006 [63]: «Социальные и экономические лишения в загрязненных районах усилили реакцию на стрессорные факторы, что привело к учащению психосоматических симптомов, однако при этом не отмечалось корреляции с уровнем загрязнения. Снижение самооценки сделало многих пострадавших функционально неспособными решать сложные социальные и экономические проблемы, а их неудовлетворительная психологическая адаптация еще в большей степени снизилась… В большой степени все перечисленное относится и к ликвидаторам, особенно к тем, кто ранее не имели профессионального контакта с ионизирующим излучением. В результате среди населения и ликвидаторов повысилась частота несчастных случаев (травм, дорожных происшествий, самоубийств, алкогольных отравлений и внезапных смертельных исходов по невыясненным причинам) по сравнению с населением областей, не затронутых аварией».
Гуськова А. К. и др., 2011 [105]: «Еще более значимыми становятся сопряженные с аварией нерадиационные факторы у участников ликвидации последствий аварии и у населения в целом: социально-экономические трудности, психологическая напряженность и дефекты информационного обеспечения».
О социальных аспектах последствий аварии на ЧАЭС для здоровья пострадавшего населения и ликвидаторов упоминается и в соответствующих документах НКДАР [3, 4]. Есть аналогичные утверждения в публикациях зарубежных авторов («После аварии на ЧАЭС бедность и [эмоциональное] напряжение создают большую угрозу, чем радиация» [106]).
Неудивительно поэтому возможное возрастание частоты наиболее социально значимых заболеваний как у населения загрязненных после аварии на ЧАЭС территорий [3, 4, 63], так и у ликвидаторов [12, 13, 61, 107]. Это возрастание может быть никак не связано с собственно лучевым воздействием.
Фактор алкоголизации
В последнее десятилетие алкогольная экспозиция признана не имеющей мутагенного эффекта, поскольку в экспериментах на клетках бактерий и млекопитающих этанол не проявил генотоксического мутагенного действия. В большинстве опытов in vivo не было и повышения частоты хромосомных нарушений [108]. Тем не менее имеется много фактов рождения у отцов-алкоголиков аномального потомства. Подобных примеров, вероятно, можно привести в любом желаемом количестве, поэтому далее рассмотрены только некоторые из них.
Алкоголь приводит к анеуплоидии спермы [109].
У потомства хронических алкоголиков снижена способность к радиоадаптивному ответу [110]. Это указывает в первую очередь на молекулярные дефекты в репарации ДНК [111]. В результате дети алкоголиков обладают повышенной чувствительностью к воздействию генетических, тератогенных и прочих факторов окружающей среды [112].
Значительный массив исследований указывает на психические и ментальные нарушения у детей алкоголиков. Механизм связан, вероятно, с влиянием на развивающийся мозг. Так, для потомков крыс, подвергавшихся хроническому воздействию этанола, продемонстрирована увеличенная активность в клетках мозга гена c-fo s [113].
В опытах на собаках показано, что воздействие на кобелей алкоголя за 12–24 часа до спаривания приводит к рождению низкорослых щенков меньшего веса, с повышенной смертностью помета. В потомстве имелись отклонения в статях и рефлексах, повышенная пугливость и агрессивность [114].
Аналогичным образом для потомков отцов с алкогольной зависимостью показана негативная эмоциональность, агрессивность, склонность к насильственным действиям, стрессорные реакции, отчужденность и более низкий достаток. В детстве такие потомки испытывают ментальные проблемы, а в зрелости имеют большую частоту трудностей в семьях и чаще страдают алкоголизмом [115–117].
Развивать здесь далее тему относительно употребления ликвидаторами алкоголя не представляется уместным, тем более что этот вопрос поднимался не раз [105]. В качестве единственного примера приведем только работу 2010 г. Синдром алкогольной зависимости и проблемы с алкоголем были выявлены у 44% обследованных ликвидаторов [118].
Можно вспомнить также рассмотренные данные об увеличенной частоте цирроза печени у английских подводников. Авторы работ указывают, что такие эффекты могут быть не связаны с факторами окружающей среды на подводных лодках [58, 59] (т.е. в том числе с горючесмазочными материалами). В связи с этим на первый план выходит, вероятно, повышенная алкоголизация как следствие стрессорных воздействий.
Фактор тяжелого (заядлого) курения
Курение табака является зачастую недооцененным, но очень важным фактором в этиологии сердечно-сосудистых заболеваний. По оценкам, курение вызывает столько же или больше сердечно-сосудистых смертей, чем смертей от рака легкого [119].
В экспериментах на плоде мышей продемонстрирован кластогенный эффект (по частоте микроядер) табачного дыма [120]. У курящих отцов обнаружена трансгенерационная передача бензопирена в эмбрион [121]. Это впечатляющий эффект чисто наследственной передачи очень канцерогенного токсиканта. И в самом деле, по некоторым данным, курение отцов увеличивает частоту выхода опухолей у потомства [122], а также обладает тератогенным эффектом [123].
Выкуривание по 20 сигарет в день в течение по крайней мере двух лет приводит к увеличенной частоте анеуплоидии спермы у молодых людей [124].
Все это может являться следствием эффекта продуктов курения на молекулярном уровне. К примеру, эти продукты формируют ломкие участки хромосом (fragile sites), особенно чувствительные к генотоксическим воздействиям [125–127]. Спонтанный уровень наиболее важных в плане канцерогенеза повреждений ДНК в клетках — двунитевых разрывов — под воздействием экстракта из сигаретного смога оказывается повышенным [128]. Регистрируется, соответственно, усиленный апоптоз подобных клеток [128–130]. Кометный анализ ДНК показал, что удельный вклад материала в хвостах комет (т.е. степень поврежденности указанной молекулы) в лимфоцитах курильщиков существенно выше [131].
В весьма показательном исследовании Шанты-ря И. И. [132] продемонстрирована зависимость частоты различных хронических патологий от курения у работников предприятия Санкт-Петербурга с ежегодной диспансеризацией. Данные представлены в табл. 3.
Таблица 3
Распределение обследованных лиц предприятия Санкт-Петербурга по группам здоровья среди курящих и некурящих (%) [132]
|
Отношение к курению |
Здоровые и практически здоровые |
Имеющие хронические заболевания |
||
|
женщины |
мужчины |
женщины |
мужчины |
|
|
Курят |
13 |
29 |
87 |
71 |
|
Не курят |
31 |
51 |
69 |
49 |
Наконец, курение может провоцировать даже патологии щитовидной железы [133]. Имеется определенная зависимость от дозы (выкуриваемых сигарет) между потерей сывороточного тиротропина с последующим увеличением свободных сывороточных T4 и T3 вследствие индуцирования через симпатическую нервную систему, причем эффект не зависит от йодной обеспеченности. Курильщики более склонны к образованию нетоксического зоба щитовидной железы и многоузловых образований, по крайнее мере в йододефицитных регионах. Курение снижает степень зависимости от дозы облучения частоты рака щитовидной железы (в особенности папиллярной формы), смазывая, таким образом, радиационный эффект. Хотя никотин и уменьшает риск аутоиммунного тиреоидита (показано в том числе на животных), тем не менее у курильщиков увеличена частота гипертиреоидизма [133].
Приведенные данные заставляют подвергнуть сомнению радиационную атрибутивность для раков щитовидной железы у ликвидаторов, об учащении которых сообщалось в последние годы [20, 82–87].
Эффект скрининга
Скрининг (повышенная частота обследования того или иного контингента и/или его более углубленное обследование [23–25]) способен в некоторых случаях быть единственной причиной якобы повышенной частоты той или иной соматической патологии по сравнению с генеральной популяцией. В [24] указывается, что, помимо прочего, «иллюзия возникает вследствие согласованного влияния нескольких систематических ошибок (bias)»:
-
— смещение от участия добровольцев (применительно к проблеме патологий ликвидаторов неактуально);
-
— смещение от раннего диагноза;
-
— смещение от выявления медленно развивающихся случаев;
-
— смещение от более углубленного и учащенного исследования.
Сообщалось, в частности, о гипердиагностике патологий щитовидной железы при углубленном скрининге, с чем не в последнюю очередь связывают неуклонный рост, в частности, раков щитовидной железы почти во всех странах мира [134, 135].
Признается также очень значительный эффект скрининга применительно к ракам щитовидной железы у детского контингента и после аварии на ЧАЭС: индекс может достигать 2,5 [136]. Что же касается других патологий щитовидной железы, то в специальном исследовании А. В. Рожко с соавторами (2010) [137] были оценены следующие краткосрочные эффекты скрининга: для рака щитовидной железы 1,52; для нетоксического узлового зоба 2,39; для нетоксического диффузного зоба 2,39, для аутоиммунного тиреоидита 3,69. К концу же восьмилетнего периода наблюдения выраженность эффекта снизилась и составила: для рака щитовидной железы 1,0; для нетоксического узлового зоба 1,64; для нетоксического диффузного зоба 1,03; для аутоиммунного тиреоидита 2,07.
Очевидно, что для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, с их частыми обследованиями, эффект скрининга должен быть выражен в весьма значительной степени.
Заключение. Представленный материал показывает, что конкретно на ликвидаторов аварии на ЧАЭС действовал уникальный (невиданный в таком комплексе ни до, ни явно после) комплекс различных нерадиогенных факторов (вкупе с радиогенными). Эти факторы, как правило, имели значительную агрессивность и интенсивность, в отличие от радиационного воздействия для большинства субъектов. (Действительно, большинство ликвидаторов России накопили дозы порядка 0,1–0,2 Гр, и только для единиц процентов от всего контингента реконструированные дозы превышали 0,25 Гр [1, 2, 6, 56, 102]. Эти дозы в большинстве своем не дают оснований для утверждений об ощутимом риске радиационно обусловленных заболеваний как стохастического, так и детерминированного характера [3–5, 88, 92, 138].)
Можно привести следующую суммарную сводку таких факторов:
-
— демографическая, социальная и профессиональная неоднородность группы, обусловливающая дифференциацию рисков для здоровья;
-
— эффекты тяжелых металлов и «горячих частиц»;
-
— эффекты растворителей и других химических соединений органической и неорганической природы;
-
— психогенный стресс;
-
— социальные факторы в постперестроечный период;
-
— фактор алкоголизации;
-
— фактор тяжелого (заядлого) курения;
-
— эффект скрининга.
Для субкогорты ликвидаторов — работников предприятий атомной индустрии — воздействие некоторых факторов могло быть выражено в более значительной степени. Это касается не только радиационного, но также, отчасти, и психогенного фактора. Ранее уже отмечалось, что ликвидаторы-профессионалы «достоверно более высоко и единодушно оценивают опасность радиационного воздействия именно в Чернобыле, чем лица, имевшие другие профессиональные вредности или не сталкивавшиеся с ними вовсе» [65].
Вполне возможно, что все это обусловливает априори и большую тяжесть некоторых соматических, социально значимых патологий у контингента ликвидаторов, никак не обусловленную воздействием облучения как такового. Но весь указанный комплекс факторов сформировался все же в результате именно аварии на ЧАЭС, и развившиеся патологии в значительной степени могут быть связаны с этой аварией как с причиной (не обязательно в плане облучения). Поэтому контингент ликвидаторов должен находиться на постоянном и особом контроле применительно к состоянию их здоровья, а также на особо углубленном изучении.
Изложенный материал может быть полезен при интерпретации последствий для здоровья ликвидаторов аварии 2011 г. на АЭС «Фукусима-1» [139], где, по всей видимости, эффект некоторых нерадиационных факторов (в частности, стресса, токсических и генотоксических химических соединений) также должен быть велик.
Список литературы Специфический комплекс нерадиационных факторов риска социально значимых патологий у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
- Ильин Л.А. Реалии и мифы Чернобыля. Изд. 2-е. М.: ALARA Limited, 1996; 473 с.
- Ильин Л.А., Крючков В.П., Осанов Д.П., Павлов Д.А. Уровни облучения участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии в 1986-1987 гг. и верификация дозиметрических данных. Радиационная биология. Радиоэкология 1995; 35 (6): 803-828
- United Nations. UNSCEAR 2000: Report to the General Assembly, with Scientific Annex. Annex J. Exposures and Effects of the Chernobyl Accident. New York, 2000. P. 451-566
- UNSCEAR 2008: Report to the General Assembly, with Scientific Annex. Annex D. Health effects due to radiation from the Chernobyl accident. United Nations. New York, 2011. P. 47-219
- BEIR VII Report 2006. Phase 2: Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation. Committee to Assess Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation, -National Research Council, http://www.nap.edu/catalog/11340.html (18 November 2014)
- Kryuchkov V, Chumak V, Maceika E, et al. RADRUE method reconstruction of external photon doses for Chernobyl liquidators in epidemiological studies. Health Phys 2009; 97 (4): 275-298
- Крючков В.П., Кочетков О.А., Цовьянов А.Г. и др. Авария на ЧАЭС: дозы облучения участников ЛПА, аварийный контроль, ретроспективная оценка. М.: Типография ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, 2011; 280 с.
- Belyakov OV, Steinhausler F, Trott K-R. Chernobyl liquidators: The people and the doses: In Proc. of the 9th Intern. In: Congress of the International Radiation Protection Association, Hiroshima, Japan, 14-19 May 2000. P. 11-252. http://www.irpa.net/irpa10/cdrom/00666.pdf (18 November 2014)
- Туков A.P., Прохорова M.H., Дзагоева Л.Г., Никитина Н.И. Заболеваемость болезнями системы кровообращения ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Здравоохранение Российской Федерации 1998; (4): 33-36
- Туков A.P. Болезни крови и кроветворных органов у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Гематология и трансфузиология 2000; (5): 31-33
- Туков A.P., Дзагоева Л.Г. Сравнительный анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертности от них у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, работавших на предприятиях атомной промышленности и атомных электростанциях России. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2002; 47 (4): 27-33
- Игнатов A.A., Туков A.P., Коров-кина Э.П., Буланова Т.M., Прохорова О.Н. Дозы внешнего облучения и сокращение жизни ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС -работников предприятий Минатома России. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2006; 51 (6): 11-15
- Шафранский И.Л., Туков A.P., Клеева H.A. Заболеваемость раком щитовидной железы и оценка рисков его развития у работников предприятий атомной промышленности России, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2011; 56 (2): 30-37
- Бирюков А.П., Игнатов А.А., Туков A.P. и др. Продолжительность жизни работников предприятий атомной промышленности, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Медико-биологические проблемы жизнедеятельности 2012; (8): 31-38
- Cristofaro JDL, Vasko V, Savchenko V, et al. Ret/PTC1 and ret/РТСЗ in thyroid tumors from Chernobyl liquidators: comparison with sporadic tumors from Ukrainian and French patients. Endocrine-Related Cancer 2005; 12 (1): 173-183
- World Health Organization. Health effects of the Chernobyl accident and special health care programmes: Report of the UN Chernobyl Forum Expert Group "Health." Geneva: WHO, 2006
- Текущее состояние РГМДР: дозы внешнего облучения участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС по областям их постоянного проживания . Радиация и риск 2009; 28 (1): 10-61
- Bouville A, Chumak W, Inskip PD, et al. The Chornobyl Accident: Estimation of Radiation Doses Received by the Baltic and Ukrainian Cleanup Workers. Radiat Res 2006; 166 (1): 158-167
- Ivanov V, Tsyb A, Ivanov S, Pokrovsky V. Medical radiological consequences of the Chernobyl catastrophe in Russia: estimation of radiation risks. St. Petersburg: Nauka, 2004; 388 p. (English)
- Иванов В.К., Чекин С.Ю., Кащеев В. В. и др. Заболеваемость раком щитовидной железы среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС: Период наблюдения 1986-2003. Радиационная биология. Радиоэкология 2007; 47 (5): 517-522
- Romanenko A, Bebeshko V, Hatch М, et al. The Ukrainian-American study of leukemia and related disorders among Chornobyl cleanup workers from Ukraine: I: Study methods. Radiat Res 2008; 170 (6): 691-697
- Chumak VV, Romanenko AYe, Voilleque PG, et al. The Ukrainian-American study of leukemia and related disorders among Chornobyl cleanup workers from Ukraine: II: Estimation of bone marrow doses. Radiat Res 2008; 170 (6): 698-710
- Флетчер P., Флетчер О, Вагнер Э. Клиническая эпидемиология: основы доказательной медицины. Пер. с англ. М.: Медиа Сфера, 1998; 352 с.
- Власов В.В. Эпидемиология: учебное пособие для вузов. М.: Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД», 2004; 462 с.
- United Nations. UNSCEAR 2006: Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. Annex A: Epidemiological studies of radiation and cancer. United Nations, New York, 2008. P. 17-322
- Неорганическая биохимия. Под ред. Г. Эйхгорн. Т. 2. М.: Мир, 1978. 736 с.
- Nordberg GF, Garvey JS, Chang ChC. Metallothionein in pasma and urine of cadmium workers. Environ Res 1982; 28 (1): 179-182
- Котеров A.H., Филиппович И.В. Радиобиология металлотионеинов. Радиационная биология. Радиоэкология 1995; 35 (2): 162-178
- Waldron НА. Did the Mad Hatter have mercury poisoning? Br Med J (Clin Res Ed) 1983; 287 (6409): 1961
- Burkart W, Linder H. Hot particles in the environment: assessment of dose and health detriment. Soz Praventivmed 1987; 32 (6): 310-315
- Osuch S, Dabrowska M, Jaracz P, et al. Isotopic composition of high-activity particles released in the Chernobyl accident. Health Phys 1989; 57 (5): 707-716
- Papp Z, Bolyos A, Dezso Z, Daroczy S. Direct determination of 90Sr and 147Pm in Chernobyl hot particles collected in Kiev using beta absorption method. Health Phys 1997; 73 (6): 944-952
- Крючков В.П., Кочетков О.А., Цовьянов А.Г. Радиационно-дозиметрические аспекты ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Под ред. В.Г. Асмолова и О. А. Кочеткова. М.: ИздАТ, 2011; 256 с.
- Schrader SM, Kanitz МН. Occupational hazards to male reproduction. Occupational Medicine: State of the art reviews: reproductive hazards. Ed. by Gold E, Schenker M, and Lasley B. 1994; 405-414
- Fisher-Fischbein J, Fischbein A, Melnick HD, Bardin CW. Correlation between biochemical indicators of lead exposure and semen quality in a lead-poisoned firearms instructor. JAMA 1987; 257 (6): 803-805
- Lerda D. Study of sperm characteristics in persons occupational^ exposed to lead. Am J Ind Med 1992; 22 (4): 567-571
- KristensenP, IrgensLM, DaltveitAK, Andersen A. Perinatal outcome among children of men exposed to lead and organic solvents in the printing industry. Am J Epidemiol 1993; 137 (2): 134-144
- Lindbohm ML, Sallmen M, Anttila A, et al. Paternal occupational lead exposure and spontaneous abortion. Scand J Work Environ Health 1991; 17 (2): 95-103
- Rogstad SH, Keane B, Collier MH. Minisatellite DNA mutation rate in dandelions in-creases with leaf-tissue concentrations of Cr, Fe, Mn, and Ni. Environ Toxicol Chem 2003; 22 (9): 2093-2099
- Lazutka JR, Lekevicius R, Dedonyte V, et al. Chromosomal aberrations and sister-chromatid exchanges in Lithuanian populations: effects of occupational and environmental exposures. Mutat Res 1999; 445 (2): 225-239
- Zheltonozhsky V, Muck K, Bondarkov M. Classification of hot particles from the Chernobyl accident and nuclear weapons detonations by non-destructive methods. J Environ Radioact 2001; 57 (2): 151-166
- Севанькаев А.В. Некоторые итоги цитогенетических исследований в связи с оценкой последствий чернобыльской аварии. Радиационная биология. Радиоэкология 2000; 40 (5): 589-595
- Воробьев A.M., Домрачева E.B., Клевезаль ГА. Дозы радиационных нагрузок и эпидемиологические исследования в Чернобыльском регионе. Терапевтический архив 1994; 66 (7): 3-7
- Домрачева E.B., Кузнецов С.А., Шкловский-Корди H.E., Воробьев A.M. Клетки с многочисленными хромосомными аберрациями, обнаруженные у жителей Чернобыльского региона. Гематология и трансфузиология 1991; (11): 36-37
- Haas JF, Schottenfeld D. Risks to the offspring from parental occupational exposures. J Occup Med 1979; 21 (9): 607-613
- United Nations. UNSCEAR 2000: Report to the General Assembly, with Scientific Annex. Annex H: Combined effects of radiation and other agents: New York, 2000. P. 177-295
- El-Zein RA, Abdel-Rahman SZ, Morris DL, Legator MS. Exposure to ethylene glycol monomethyl ether: clinical and cytogenetic findings. Arch Environ Health 2002; 57 (4): 371-376
- Molholt B, Finette BA. Distinguishing potential sources of genotoxic exposure via HPRT mutations. Radiation biology. Radioecology 2000; 40 (5): 529-534. (English)
- Слозина H.M., Неронова Е.Г Генетические последствия чрезвычайных ситуаций. Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях 2007; (1): 32-40
- Cohen FL. Paternal contributions to birth defects. Nurs Clin North Am 1986; 21 (1): 49-64
- National Toxicology Program. Final report on carcinogens background document for formaldehyde. Rep Carcinog Backgr Doc 2010; 10(5981). 1-512
- De Grosbois S, Mergler D. Mental health and the exposure to organic solvents in the workplace. Sante Ment Que 1985; 10 (2): 99-113
- Nordling Nilson L, Barregard L, Sallsten G, Hagberg S. Self-reported symptoms and their effects on cognitive functioning in workers with past exposure to solvent-based glues: an 18-year follow-up. Int Arch Occup Environ Health 2007; 81 (1): 69-79
- Goswami E, Craven V, Dahlstrom DL, et al. Domestic asbestos exposure: a review of epidemiologic and exposure data. Int J Environ Res Public Health 2013; 10 (11): 5629-5670
- Котеров A.H., Бирюков А.П. Дети ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. I: Оценка принципиальной возможности зарегистрировать радиационные эффекты. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2012; 57 (1): 58-79
- Котеров A.H., Бирюков А.П. Дети участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 2: Частота отклонений и патологий и их связь с нерадиационными факторами. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2012; 57 (2): 51-77
- Inskip Н, Snee М, Styles L. The mortality of Royal Naval submariners 1960-1989. Occup Environ Med 1997; 54 (3): 209-215
- Inskip H. The mortality of Royal Naval submariners 1960-1989. J R Nav Med Serv 1997; 83 (1): 19-25
- Wong FL, Yamada M, Sasaki H, et al. Noncancer diseases incidence in atomic bomb survivors 1958-1988. Radiat Res 1993; 135 (3): 418-430
- Иванов В.К., Максютов М.А., Чекин С.Ю. и др. Радиационно-эпидемиологический анализ неонкологической заболеваемости ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Радиация и риск 2001; (12): 82-98
- Алексанин С.О., Рыбников В.Ю. Состояние здоровья участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В кн.: 25 лет после чернобыльской катастрофы: Преодоление ее последствий в рамках союзного государства: сборник пленарных докладов Международной научно-практической конференции. Под общ. ред. B.C. Аверина. Гомель: Сож, 2011; с. 23-28
- Ярмоненко С.П. Медицинские последствия аварии на ЧАЭС: аналитический обзор экспертных материалов за 20 лет, прошедших после аварии. Мед. радиология и радиац. безопасность: Специальное приложение 2006. 18 с.
- Rumyantseva GM, Stepanov AL. Post-traumatic stress disorder in different types of stress (clinical features and treatment). Neurosci Behav Physiol 2008; 38 (1): 55-61
- Румянцева Г.M., Чинкина О.В., Бежина Л.Н. Радиационные инциденты и психическое здоровье населения. М.: ФГУ «ГНЦССП», 2009; 288 с.
- Румянцева Г.M., Чинкина О.В., Шишков С.Н. Экспертная оценка психических нарушений у лиц, подвергшихся радиационному воздействию повышенного уровня: руководство для врачей и психологов. М.: ФГУ «ГНЦССП им. В. П. Сербского» Минздравсоцразвития России, 2011; 260 с.
- Метляева H.A. Особенности психофизиологического статуса больных острой лучевой болезнью и участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2007; 52 (3): 10-21
- Метляева H.A. Оценка эффективности психофизиологической адаптации к условиям социальной среды больных острой лучевой болезнью и участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2009; 54 (5): 36-41
- Исаева H.А., Торубаров Ф.С. Тревожно-депрессивные расстройства у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в отдаленный период: лечение методом биологической обратной связи. Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2009; 54 (4): 42-46
- Матвеева Н.П., Каплан M.A., Белехов В. В. Психологический статус ликвидаторов в отдаленный период после окончания работ в зоне ЧАЭС. Радиация и риск 1999; (11): 94-100
- Goldman М. The Russian Radiation Legacy: its integrated impact and lessons. Environ Health Perspect 1997; 105. Suppl. 6: 1385-1391
- Viel JF, Curbakova E, Dzerve B, et al. Risk factors for long-term mental and psychosomatic distress in Latvian Chernobyl liquidators. Environ Health Perspect 1997; 105. Suppl 6: 1539-1544
- Pastel RH. Radiophobia: long-term psychological consequences of Chernobyl. Mil Med 2002; 167 (2 Suppl): 134-136
- Rahu K, Rahu M, Tekkel M, Bromet E. Suicide risk among Chernobyl cleanup workers in estonia still increased: an updated cohort study. Ann Epidemiol 2006; 16 (12): 917-919
- Barnett L. Psychosocial effects of the Chernobyl nuclear disaster. Med Confl Surviv 2007; 23 (1): 46-57
- Bromet EJ, Havenaar JM. Psychological and perceived health effects of the Chernobyl disaster: a 20-year review. Health Phys 2007; 93 (5): 516-521
- Loganovsky K, Havenaar JM, Tintle NL, et al. The mental health of clean-up workers 18 years after the Chernobyl accident. Psychol. Med. 2007; 30 (4): 1-8
- Sumner D. Health effects resulting from the Chernobyl accident. Med Confl Surviv 2007; 23 (1): 31-45
- Либерман A.H. Радиация и репродуктивное здоровье. Санкт-Петербург, 2003; 233 с.
- Collodel G, Moretti Е, Fontani V, et al. Effect of emotional stress on sperm quality. Indian J Med Res 2008; 128 (3): 254-261
- Fischbein A, Zabludovsky N, Eltes F, et al. Ultramorphological sperm characteristics in the risk assessment of health effects after radiation exposure among salvage workers in Chernobyl. Environ Health Perspect 1997; 105. Suppl 6:1445-1449
- Tronko MD, Howe GR, Bogdanova Tl, et al. A cohort study of thyroid cancer and other thyroid diseases after the Chornobyl accident: thyroid cancer in Ukraine detected during first screening. J Natl. Cancer Inst 2006; 98 (13): 897-903
- Ivanov VK, Chekin SY, Kashcheev VV, et al. Risk of thyroid cancer among Chernobyl emergency workers of Russia. Radiat Environ Biophys 2008; 47 (4): 463-467
- Иванов В.К., Горский А.И., Максютов М.А. и др. Радиационные риски заболеваемости раком щитовидной железы, обусловленным облучением ликвидаторов радиоизотопами йода. Радиация и риск 2009; 18 (1): 62-75
- KesminieneA, EvrardAS, Ivanov VK, etal. Risk of thyroid cancer among Chernobyl liquidators. Radiat Res 2012; 178 (5): 425-436
- Zablotska LB, Bogdanova Tl, Ron E, et al. A cohort study of thyroid cancer and other thyroid diseases after the Chornobyl accident: dose-response analysis of thyroid follicular adenomas detected during first screening in Ukraine (1998-2000). Am J Epidemiol 2008; 67 (3): 305-312
- Заключение Российской научной комиссии по радиологической защите по докладу «Оценка радиационных рисков онкологической заболеваемости и смертности среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС по данным Национального радиационно-эпидемиологического регистра». Радиация и риск 2010; 19 (4): 7
- Котеров A.H. От очень малых до очень больших доз радиации: новые данные по установлению диапазонов и их экспериментально-эпидемиологические обоснования. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2013; 58 (2): 5-21
- Бирюков А.П., Зеленская H.C., Украинцев В.Ф. Состояние здоровья работников атомной промышленности, принимавших участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. В кн.: Матер. VII Межд. конф. «Безопасность АЭС и подготовка кадров». Обнинск, 8-11 октября 2001
- Onitilo АА, Nietert PJ, Egede LE. Effect of depression on all-cause mortality in adults with cancer and differential effects by cancer site. Gen Hosp Psychiatry 2006; 28 (5): 396-402
- Amikishieva AV, llnitskaya SI, Nikolin VP, et al. Depressive-like psychoemotional state versus acute stresses enhances Lewis lung carcinoma metastasis in C57BL/6J mice. Exp Oncol 2011; 33 (4): 222-225
- United Nations. UNSCEAR 2006: Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. Annex B: Epidemiological evaluation of cardiovascular disease and other non-cancer diseases following radiation exposure. New York, 2006. P. 325-383
- Mayorov DN. Brain angiotensin AT1 receptors as specific regulators of cardiovascular reactivity to acute psychoemotional stress. Clin Exp Pharmacol Physiol 2011; 38 (2): 126-135
- Циммерман Я.О., Циммерман И.Я. Депрессивный синдром в гастроэнтерологии: диагностика и лечение. Клиническая медицина 2007; 85 (5): 16-23
- Peters ЕМ, Arck PC, Paus R. Hair growth inhibition by psychoemotional stress: a mouse model for neural mechanisms in hair growth control. Exp Dermatol 2006; 15 (1): 1-13
- Арушанян Э.Б., Бейер Э.В. Взаимосвязь психоэмоционального состояния и иммунной системы. Успехи физиологических наук 2004; (4): 49-64
- Орадовская И.В. Динамика показателей иммунного статуса ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде. Радиационная биология. Радиоэкология 2006; 46 (3): 348-373
- Корыстов Ю.Н. Эмоции, стресс, курение, потребление алкоголя и рак: корреляционные и причинные связи. Журнал ВНД им. Павлова 1997; (4): 627-657
- Antonov VP The radiation situation and its social and psychological aspects. Kiev: Knowledge, 1987; 48 p. Russian (Антонов В. П. Радиационная обстановка и ее социально-психологические аспекты. Киев: Знание, 1987; 48 с.
- Рыбников В.Ю., Олешко В.А. Состояние здоровья и медико-психологическая коррекция психосоматических нарушений у ветеранов подразделений особого риска. Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях 2007; (2): 13-20
- Санников M.B., Андреев А.А. Состояние здоровья спасателей и специалистов государственной противопожарной службы России. Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях 2007; (1): 19-26
- Теплякова О.В., Чернов В.И., Лишманов Ю.Б. Исследование качества жизни ликвидаторов аварии на ЧАЭС в отдаленный период и влияния суставного синдрома на основные составляющие их жизнедеятельности. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2007; 52 (5): 19-25
- Алхутова H.A., Дрыги-на Л.Б., Калинина Н. М. и др. Анализ биологического возраста и причин ускорения темпов старения участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Медицинская радиология и радиационая безопасность 2007; 52 (5): 26-35
- Оганесян H.M., Давидян H.P, Геворкян Э.Г. и др. Отдаленные медицинские последствия аварии на ЧАЭС в Армении. Оценка качества жизни и ускоренного биологического старения ликвидаторов аварии. Радиационная биология. Радиоэкология 2011; 51 (1): 91-100
- Гуськова А.К., Галстян И.А., Гусев И.А. Авария Чернобыльской атомной станции (1986-2011 гг.): последствия для здоровья, размышления врача. Под общ. ред. А. К. Гуськовой. М.: ФМБЦ им. А. И. Бурназяна; 2011. 254 с.
- Stephan V Chernobyl: poverty and stress pose 'bigger threat' than radiation. Nature 2005; 437 (7056): 181
- Иванов В.К., Максютов М.А., Чекин С.Ю. и др. Риски цереброваскулярных заболеваний среди ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Радиационная биология. Радиоэкология 2005; 45 (3): 261-270
- Phillips BJ, Jenkinson P. Isethanol genotoxic? A review of the published data. Mutagenesis2001; 16(2): 91-101
- Robbins WA, Vine MF, Truong KY, Everson RB. Use of fluorescence in situ hybridization (FISH) to assess effects of smoking, caffeine, and alcohol on aneuploidy load in sperm of healthy men. Environ Mol Mutagen 1997; 30 (2): 175-183
- Пелевина И.И., Алещенко А.В., Антощина М.М. и др. Реакция популяции клеток на облучение в малых дозах. Радиационная биология. Радиоэкология 2003; 43 (2): 161-166
- Котеров A.H., Никольский А.В. Адаптация к облучению in vivo. Радиационная биология. Радиоэкология 1999; 39 (6): 648-662
- Steinhausen НС. Children of alcoholic parents: a review. Eur Child Adolesc Psychiatry 1995; 4 (3): 143-152
- Anokhina IP, Ovchinnikova LN, Shamakina lYu, et al. Some neurobiological mechanisms of the effect of ethanol on offspring of chronically alcohol treated rats. Ann Med 1990; 22 (5): 353-356
- Meek LR, Myren K, Sturm J, Burau D. Acute paternal alcohol use affects offspring development and adult behavior. Physiology & Behavior 2007; 91 (1): 154-160
- Elkins IJ, McGue M, Malone S, lacono WG. The effect of parental alcohol and drug disorders on adolescent personality. Am J Psychiatry 2004; 161 (4): 670-676
- Velleman R, Orford J. The adult adjustment of offspring of parents with drinking problems. Br J Psychiatry 1993; 162: 503-516
- Grekin ER, Brennan PA, Hammen О Parental alcohol use disorders and child delinquency: the mediating effects of executive functioning and chronic family stress. J Stud Alcohol 2005; 66(1): 14-22
- Пострелко B.M. Синдром зависимости от алкоголя у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: клиническая эпидемиология и лечение. В кн.: Матер. VI Съезда по радиационным исследованиям. Т. I. Москва, 25-28 октября 2010 г. М.: РУДН, 2010; с. 121
- Медицинские последствия Чернобыльской аварии: отчет Чернобыльского форума специалистов; группа «Здоровье»; резюме специалистов. Пер. с англ. О. К. Алексеевой под ред. П. В. Ижевского; ГНЦ -Институт биофизики, ФМБА при Минздраве РФ; отдел научно-технической информации; перевод № 268 (ч. 2/3), 2005; 13 с.
- Balansky RM, Blagoeva РМ. Tobacco smoke-induced clastogenicity in mouse fetuses and in newborn mice. Mutat Res 1989; 223(1): 1-6
- Zenzes MT, Puy LA, Bielecki R, Reed ТЕ. Detection of benzo pyrene diol epoxide-DNA adducts in embryos from smoking couples: evidence for transmission by spermatozoa. Mol Hum Reprod 1999; 5 (2): 125-131
- Anderson D. Male-mediated developmental toxicity. Toxicol Appl Pharmacol 2005; 207 (2 Suppl): 506-513
- Schmidt F. Smoking damages male fertility. Andrologia 1986; 18 (5): 445-454
- Rubes J, Lowe X, Moore D. 2nd, et al. Smoking cigarettes is associated with increased sperm disomy in teenage men. Fertil Steril 1998; 70 (4): 715-723
- Yunis JJ, Soreng AL. Constitutive fragile sites and cancer. Science. 1984; 226 (4679): 1199-1204
- Kuwano A, Kajii T. Synergistic effect of aphidicolin and ethanol on the induction of common fragile sites. Hum Genet 1987; 75(1): 75-78
- Coquelle A, Toledo F, Stern S, et al. A new role for hypoxia in tumor progression: induction of fragile site triggering genomic rearrangements and formation of complex DMs and HSRs. Mol Cell 1998; 2 (2): 259-265
- Fu Q, Cheng J, Han Zh-B. DNA damage and apoptosis of human airway epithelial cell lines caused by cigarette smoke extract. Ai Zheng 2006; 25 (10): 1191 -1197
- Banerjee Sh, Maity P, Mukherjee S. Black tea prevents cigarette smoke-induced apoptosis and lung damage. J Inflamm (Lond)2007;4(1):3
- Van derToorn M, Slebos D-J, De Bruin H, etal. Cigarette smoke induced blockade of the mitochondrial respiratory chain switches lung epithelial cell apoptosis into necrosis. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2007; 292 (5): L1211-L1218
- Сирота Н.П., Кузнецова E.A., Гуляева H.A. и др. Индивидуальные различия ответа клеток крови онкологических больных на радиационное воздействие в ходе химиотерапии. Радиационная биология. Радиоэкология 2005; 45 (6): 645-652
- Шантырь И. И. Распространенность потребления табака и показатели здоровья никотинзависимых лиц. Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях 2007; (1): 4951
- Wiersinga WM. Smoking and thyroid. Clin Endocrinol (Oxf.)2013;79(2): 145-151
- Morris LG, Sikora AG, Tosteson TD, Davies L. The increasing incidence of Thyroid cancer: the influence of access to care. Thyroid 2013; 23 (7): 885-891
- Verkooijen HM, Fioretta G, Pache JC, et al. Diagnostic changes as a reason for the increase in papillary thyroid cancer incidence in Geneva, Switzerland. Cancer Causes Control 2003; 14(1): 13-17
- Kaiser JC, Jacob P, Blettner M, Vavilov S. Screening effects in risk studies of thyroid cancer after the Chernobyl accident. Radiat Environ Biophys 2009; 48 (2): 169-179
- Рожко А.В., Масякин В.Б., Надыров Э.А., Океанов А. Е. Роль эффекта скрининга при оценке результатов когортного исследования тиреоидной патологии. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2010; 55 (1): 19-23
- ICRP Publication 118. ICRP Statement on tissue reactions and early and late effects of radiation in normal tissues and organs -threshold doses for tissue reactions in a radiation protection context. Annals of the ICRP. Ed. by C.H. Clement. Amsterdam; New York: Elsevier, 2012; 325 p.
- UNSCEAR 2013: Report to the General Assembly, with Scientific Annex. Annex A: Levels and effects of radiation exposure due to the nuclear accident after the 2011 great east-Japan earthquake and tsunami. United Nations, New York, 2013; 311 p.