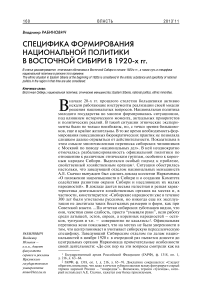Специфика формирования национальной политики в Восточной Сибири в 1920-х гг
Автор: Рабинович Владимир Юльевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается этническая обстановка в Восточной Сибири в начале 1920-х гг., а также суть и специфика национальной политики в регионе того времени.
Восточная сибирь, национальная политика, этнические меньшинства
Короткий адрес: https://sciup.org/170166723
IDR: 170166723
Текст научной статьи Специфика формирования национальной политики в Восточной Сибири в 1920-х гг
Вначале 20-х гг. прошлого столетия большевики активно искали работающие инструменты реализации своей модели решения национальных вопросов. Национальная политика молодого государства во многом формировалась ситуационно, под влиянием исторического момента, актуальных приоритетов и политических реалий. В такой ситуации этнические эксперименты были не только неизбежны, но, с точки зрения большевиков, еще и крайне желательны. В то же время необходимость формирования повседневных бюрократических практик не позволяла слишком далеко отрываться от действительности. Показательна в этом смысле многочисленная переписка сибирских чиновников с Москвой по поводу «национальных дел». В ней неоднократно отмечалась разбалансированность официальной политики по отношению к различным этническим группам, особенно к коренным народам Сибири. Выделялся особый подход к проблеме, свойственный хозяйственным органам1. Ситуация обострилась настолько, что заведующий отделом национальных меньшинств А.Е. Скачко вынужден был сделать доклад коллегии Наркомнаца «О положении нацменьшинств в Сибири и о создании Комитета содействия развитию окраин Сибири и населяющих их малых народностей». В докладе дается весьма нелестная и резкая характеристика деятельности хозяйственных органов на местах и, в частности, констатируется: «Сибирские народности уже в течение 300 лет были угнетаемы русскими, но никогда еще их эксплуатация не достигала таких бесстыдных размеров и форм, как при Советской власти. …По отчетам сибирских губотнацев видно, что они, чувствуя свою слабость, просто “умывали руки”, вели работу среди латышей, эстов, евреев, а коренных народностей – остяков, тунгусов и т.п. – совершенно не касались»2. Официальная переписка ясно показывает, что на местах не было уверенности в том, что центр понимает и учитывает сибирскую переселенческую специфику. Заведующий Сибирским отделом по делам национальностей в ноябре 1920 г. в очередной раз пытается донести до центральных органов Наркомнаца примечательные особенности своей деятельности: «До сих пор на эти вопросы смотрели как на маловажные, нестоящие надлежащего внимания. И, к великому сожалению, до сих пор целый ряд стоящих у власти советских работников продолжают быть слишком усердными русскими и своим поведением способствуют обособленности разных национальных групп и инородческих племен». Автор делает попытку каким-то образом классифицировать «подведомственные» национальные группы. Такая типологизация изначально инструментальна: в дальнейшем предлагается строить работу с разными группами дифференцированно, в зависимости от «развитости» и «культурности» того или иного этноса. Докладчик выделяет среди сибирских инородцев «более культурные инородческие племена» (буряты, якуты, монголы, отчасти киргизы и особо выделяются татары) и «национальные группы Запада» (эстонцы, латыши, литовцы, поляки, немцы, евреи, финны и т.д.). Подразумевается существование «менее культурных инородческих племен» (туземцев) и «национальных групп Востока»1.
В начале 20-х гг. этническая ситуация в Восточной Сибири, и в Иркутске в частности, также претерпевала принципиальные и активные трансформации. В районах, охваченных переписью 1920 г., крайне неполной и содержащей заметные лакуны, в Иркутской губернии было зарегистрировано 67 национальностей. Все население губернии исчислялось в 676 206 чел., в т.ч.: русские – 547 851 чел. (81,02% общей численности населения); буряты – 79 050 (11,69%); евреи – 9 751 (1,44%); татары – 9 220 (1,36%); поляки – 7 530 (1,11%); малороссы – 5 379 (0,79%); ясачные2 – 3 298 (0,49%); китайцы – 1 865 (0,28%); немцы – 1 497 (0,22%); литовцы – 676 (0,10%); мадьяры – 574 (0,08%); эстонцы – 552 (0,07%); корейцы – 329 (0,05%)3.
Основными советскими органами, формирующими национальную политику на местах, были губернские отделы по делам национальностей, входящие в состав соответствующих исполкомов. Как отмечалось на всероссийском совещании Наркомнаца в декабре 1920 г., они создаются «в целях осуществления защиты интересов и удовлетворения нужд национальных меньшинств, а также установления братского сожительства как между ними, так и между национальными меньшинствами и преобладающей национальностью». К задачам и компетенциям отделов среди прочего относились: содействие дальнейшему развитию всех национальных меньшинств данной местности; проведение классового расслоения, поднятие классового самосознания и организация трудящихся масс национальных меньшинств; установление тесной связи и согласование действий советских органов с национальными меньшинствами4.
В партийных органах существовала своя этническая «административная вертикаль». До июня 1920 г. в структуре губкома РКП(б) действовал национальный отдел, осуществляющий политическое руководство региональными этническими группами. Он имел самостоятельный характер и действовал на правах отдельного уезд-кома, что позволяло иметь весьма заметный политический вес и значительные полномочия. Нацотдел включал в себя несколько национальных секций, представляющих интересы наиболее значимых и по численности, и по политическим соображениям этнических групп. Работа секций к этому моменту происходила в губернском масштабе и велась на национальном языке5. Однако 15 июля 1920 г. Нацотдел был ликвидирован и преобразован в подотдел организационноинструкторского отдела губпарткома. В свою очередь, секции были реорганизованы в агитационно-пропагандистские секции губпарткома (некоторое время их называли бюро).
С этого момента обязанности секций сводятся в основном к агитации и пропаганде среди своих национальных групп. В Инструкции для дальнейшей организационно-агитационной работы среди национальных меньшинств говорится об обязанностях, вменяемых секциям. Особо подчеркивалось, что «работа Агитационно-пропагандических бюро должна иметь целью сплотить массы различных национальностей с массами русских и никак не допустимо, чтобы в Агитационно-пропагандических бюро различных национальностей среди рабочих был бы желателен сепаратизм. По возможности бюро должны стремиться к принятию мер, чтобы товарищи, не понимающие русского языка – получали бы уроки русского языка и чтобы стенки между товарищами различных национальностей и русскими товарищами были разбиты окончательно… Вся деятельность Секций должна сводиться исключительно к пропаганде и агитации среди национальности своей…»1.
Согласно ежемесячным отчетам губ-кома в 1920 г. в сфере внимания властей находилось несколько этнических групп, что и получило отражение в секционной структуре Нацотдела, куда входили секции: мадьярская (позднее – венгерская); немецкая; латышская; славянская (позднее – чехословацкая); корейская; китайская; эстонская; еврейская; мусульманская; польская; бурятская2.
Главная работа в секции ложилась на плечи агитаторов-инструкторов. В Инструкции по работе среди нацменьшинств отмечается: «Основная задача… заключается не в углублении национальных чувств, а в содействии их изживанию. На этом основном положении должна строиться работа инструкторов на местах». Деятельность инструктора на местах предельно регламентирована. Он должен выяснить, насколько глубока обособленность обслуживаемой им национальности от большинства населения; в какой мере владеет данная национальность языком большинства; каково влияние религии; существует ли и в какой мере национальный антагонизм; каковы ее производственные функции и отличаются ли они от производственных функций большинства. «По выяснении этих вопросов, можно приступать к работе, руководствуясь следующим. Если национальность живет в полной мере одной жизнью с большинством в смысле производства, языка, быта, то специальной работы вести не нужно. В том случае, если при всех данных условиях существует религиозность, вести антирелигиозную пропаганду среди всего населения, а не обособленно. К антирелигиозной пропаганде подходить осторожно, и на первых порах во главу угла не ставить. Если существует национальная вражда при всех данных условиях, вести борьбу с ней также, по возможности, среди всего населения. При отсутствии знания языка большинства, вести работу на собраниях, конференциях и т.д. на языке нацменьшинства, но при обязательном привлечении других национальностей, как большинства, так и других меньшинств. При различии производственных функций привлекать на собрании и т.д. наиболее пролетаризированную часть большинства населения»3.
Вопрос о соотношении родного языка меньшинства и русского языка серьезно волновал власти4. Большевики неожиданно столкнулись с целым рядом проблем, имеющих «лингвистический» оттенок. Озабоченные политической пассивностью деревни и недоверием (а зачастую и враждебностью) по отношению к себе, новые власти не сразу смогли развернуть широкую агитационно-пропагандистскую работу, например в татарских деревнях. Массовое незнание русского языка, с одной стороны, и отсутствие подготовленных кадров, знающих татарский язык, – с другой, делали такую работу практически невозможной.
Самые жаркие языковые баталии развернулись «на еврейской улице». Характеризуя деятельность Евсекции РКП(б), иркутские власти отмечали: «90% всего еврейского населения Иркутской губернии живет в городе Иркутске, где оно превышает 25 000 человек. Евреев-рабочих в Иркутске незначительный процент, остальное – элемент мелкобуржуазный. Национал-шовинисты, религиозная аристократия и буржуазные филантропы имели и по сию пору имеют огромное влияние на эти мелкобуржуазные массы. Умудренные тысячелетними скитаниями, гонениями и надругательствами, они научились ловко маскировать свои антипролетарские действия и, обделывая явно контрреволюционные делишки, может непосвященному показаться, что делается доброе коммунистическое дело на благо трудящимся. И не мудрено, что мелкобуржуазный обыватель слепо верит им. Вот с этим элементом малочисленной Еврейской секции РКП под непосредственным ведением Губкома и приходится бороться и постоянно быть начеку». В такой ситуации Евсекция становилась инструментом жесткого классового контроля и подавления любых других идеологических течений. Далее в документе читаем: «Ничем не отличаясь экономически от русского населения, вся борьба коммунистов с национал-шовинистами сосредотачивается вокруг культурно-просветительских учреждений и вопросов социального воспитания и обеспечения. Все эти учреждения Секция взяла в свое ведение: школы, детские дома, театр, клуб и различные культурнопросветительские кружки и библиотеки. ‹…› Не ограничиваясь этим, Секция открыла народную аудиторию на окраине, где живет еврейская беднота, и там каждую неделю читаются доклады, знакомящие массы с коммунизмом, ведется культурно-просветительная работа и делаются попытки привлечь массу к общественной деятельности и активной поддержке Советвласти. ‹…› Секция также за это время закрыла религиозные хедеры, передав Губкомтруду 33 человека, обслуживающих хедеры и синагоги»1. Краеугольной проблемой стал вопрос о соотношении иврита (старого еврейского языка) и идиша (жаргона). Этот вопрос имел ярко выраженную политическую окраску. С точки зрения Евсекции, иврит являлся реакционным языком еврейской буржуазии и должен был быть полностью заменен идишем – языком еврейского пролетариата. Школы, где преподавание велось на иврите, равно как и периодические издания на иврите, закрывались. К концу 20-х гг. иврит оказался единственным языком, объявленным в Советском Союзе «вне закона». В результате иудейское религиозное образование сделалось невозможным. Иркутская Евсекция принимала все возможные меры для недопущения деятельности любых образовательных учреждений, где одним из предметов был бы иврит. Так, в Иркутске в свое время были закрыты школы «Тарбут», имеющие «сионистскую начинку»2. Следует понимать, что необходимость защиты и государственной поддержки идиша не определялась его самоценностью. Большевики рассматривали такую поддержку функционально, как политически необходимую, предполагая скорое вытеснение «жаргона» русским языком. Своеобразным рубежом, ознаменовавшим новый этап в формировании национальной политики, стал 1923 г. На XII съезде партии была, наконец, выработана официальная концепция национальной политики. Анализируя итоги съезда, Б. Ольховый подчеркивает: «При царизме все национальные меньшинства угнетались великодержавной великорусской нацией, и наследием этой политики является недоверие к русским со стороны этих национальных меньшинств. …В то же время наследие прошлого дает себя иногда чувствовать кой-где и в партии, когда поляка называют “полячишкой”, татарина – “князем”, кавказца – “восточным человеком” и т.д. Еще сильней это сказывается на советском аппарате, где пренебрежение к интересам нацменьшинств благодаря бюрократическим извращениям этого аппарата могут давать о себе сильно чувствовать»3. К этому моменту этническая картина в Иркутске в очередной раз изменилась. Бурятская секция была расформирована вследствие выделения Бурятской области и создания Буроблкома. Эти преобразования рассматривались властями как громадный шаг к решению бурятского вопроса. Европейские иностранные группы ушли в свои государства, а те, кто сделал свой выбор в пользу советского гражданства, по сути, должны были отказаться от своей этничности, по крайней мере от ее открытой манифестации4. С уходом интернациональной дивизии № 5 в регионе резко уменьшилось число корейцев и китайцев. Свою роль здесь сыграло и вытеснение этих этнических групп из сферы ручного труда рабочими-татарами. Процесс ассимиляции евреев шел полным ходом, и они перестали выступать как единая диаспор-ная группа. Таким образом, в сфере внимания властей остается только татарское население: «Подотдел нацмен состоит всего из одной секции – татарской (секретарь т. Сагеев). Другие секции упразднены ввиду малочисленности населения соответствующей национальности»1. К этому моменту алгоритм взаимодействия советской власти с национальными меньшинствами в основном уже сложился. В результате многовекторных поисков были сформированы административные и политические структуры, позволяющие чиновникам эффективно управлять меньшинствами. Сложился язык публичного обсуждения национальной проблематики. Не случайным является то, что именно к 1923 г. завершился процесс секуляризации церковного имущества, что стало формальным итогом отделения церкви от государства. Но для локальных этнических групп религиозные структуры уже не играли роль повседневно необходимых институций. Они были заменены структурами нового государства. Отметим, что светская этническая идентичность предполагает ее манифестирование конкретным индивидом, что во многом определяет природу взаимодействия меньшинства с чиновниками, принимающим обществом, другими национальными группами. К середине 20-х гг. фактически завершился переход от сословно-конфессиональной идентичности к идентичности этнической. Маркирование по «национальному признаку» прочно и надолго становится элементом советского образа жизни. Принципиальным является то, что меньшинства к этому моменту тоже научились уживаться с новой властью. Более того, они встроились в структуру нового государства на принципиально иных, нежели в Российской империи, основаниях.
Статья подготовлена в рамках проекта «Политическая модернизация российских регионов: вызовы и риски». Соглашение от 26.07.2012 г. № 14.B37.21.0282. Министерство образования и науки РФ, Иркутский государственный университет: Программа стратегического развития. Проект Р 222-МИ-006.