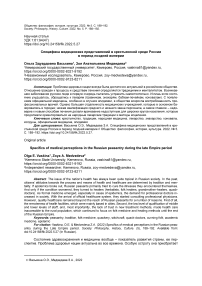Специфика медицинских представлений в крестьянской среде России в период поздней империи
Автор: Васькина Ольга Эдуардовна, Медведева Зоя Анатольевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 5, 2022 года.
Бесплатный доступ
Проблема здоровья нации всегда была достаточно актуальной в российском обществе. Отношение граждан к процессу и средствам лечения определяется традициями и менталитетом. Возникавшие заболевания русские люди в первую очередь пытались устранить самостоятельно. И лишь если состояние ухудшалось, обращались к лекарям (травникам, знахарям, бабкам-лечейкам, коновалам). С появлением официальной медицины, особенно в случаях эпидемии, в обществе возросла востребованность профессиональных врачей. Однако большая отдаленность медицинских учреждений, которые в основном базировались в городах; низкая квалификация среднего и низшего звена персонала, а самое главное - недоверие к новым способам лечения делали врачевание недоступным для широких кругов населения, которые продолжали ориентироваться на народные лекарские традиции и методы исцеления.
Крестьянство, традиции, народная медицина, лекарство, знахарство, коновалы, колдуны, официальная медицина, эпидемия
Короткий адрес: https://sciup.org/149139936
IDR: 149139936 | УДК: 1:61:94(47)
Текст научной статьи Специфика медицинских представлений в крестьянской среде России в период поздней империи
в периоды эпидемий (моровых поветрий), а если говорить о нашем времени – пандемий. Поведение народа в кризисных ситуациях, отношение к собственному здоровью и выбору методов лечения зависит от его менталитета, привычек, традиций, сформировавшихся в определенных исторических условиях.
В настоящем исследовании, посвященном изучению специфики медицинских представлений, бытовавших в крестьянской среде России в конце XIX века, использованы сравнительноисторический метод и микроисторические изыскания. Первый из упомянутых позволяет анализировать изменения взглядов крестьян на традиционную и официальную медицину. Второй был применен в ходе изучения ряда архивных документов: «Обзора Томской губернии»1, материалов Государственного архива Республики Бурятии2, которые содержат сведения о повседневной жизни и медицинских представлениях российского крестьянства в период поздней империи.
В русском государстве на рубеже XIX–XX вв. наиболее распространенной являлась именно народная медицина, к помощи которой население прибегало по мере возникновения необходимости в этом. По свидетельству авторитетных исследователей, таких как Н.А. Миненко (1979), оказание помощи населению в сохранении и восстановлении здоровья попадает в зону серьезного внимания государства лишь в XVIII веке. До этого времени за лечением крестьяне обращались к травникам, знахарям, повитухам, костоправам и даже коновалам, а за утешением и наставлениями – к священнослужителям. Рассмотрим подробнее характеристики народных целителей.
Знахарка опиралась на Божью помощь и в основном лечила маленьких детей. К ней шли при грыже, родимце и таких заболеваниях, как испуг, уроки, призоры, причину которых усматривали в сглазе. При лечении ребенка знахарка использовала своего рода массаж: ребенка разминали, вытягивали, «правили ему голову», «доделывали» и «перепекали» в печи, если последний был слаб. Бабка также парила ребенка березовым или травяным веником.
Знахарка не просто читала заговоры, а использовала отвары трав. Так, при родах применяли средства, усиливающие схватки и останавливающие кровопотерю, младенца купали в целебных вытяжках (череда, ромашка, чистотел). Первое купание предполагало добавление в воду многих компонентов: мяты, душицы, череды, василька, руты, любистока. Считалось, что оно не просто давало здоровье и повышало тонус ребенку, но и смывало с него негативные воздействия в виде порчи и сглаза.
Знахарка использовала в лечебных целях не только молитвы, но и воду, огонь (причем именно домашний), землю. Испуг, тоску, различного рода судороги, то есть родимец, лечили у печи с помощью воды, которая заговаривалась и закрещивалась ножом. Печь рассматривалась как преобразующее начало, трансформирующее объект из одного состояния в другое, и ассоциировалась с материнским лоном. В ней врачевали грыжи, «собачью старость», сухотки, немочи.
Активно использовалась в лечении сила земли. Считалось, что «самая стихия эта настолько свята и чиста, что не держит в себе ничего нечистого и в особенности враждебного людям» (Максимов, 1991: 325–326). Поэтому сырую землю прикладывали, например, к месту укуса змей и насекомых, ею натирали колени, лечили нарывы, горячку и даже оспу. При ушных болезнях в ухо помещали камушек, который впоследствии обжигали и кидали в реку или ручей – таким образом обеспечивалось комплексное использование стихий – воды, земли, огня.
Мужчина-знахарь не только лечил, но мог ворожить, предсказывать судьбу, находить пропавшие вещи, животных, обеспечить мужскую силу. В ритуалах он применял «природный», а не «домашний огонь». Это пламя считалось чистым, его добывали посредством трения. Перед началом ритуала печи не растапливали, по всей деревне зажигали костры, пламя которых впоследствии разносили по домам. «Чистый огонь» лечил кожные заболевания (герпес, аллергию). Почти повсеместно существовала традиция сжигать одежду с больного, лепить из глины фигуру человека или больной части тела и бросать ее в печь. Для лечения также использовались «производные» от огня «средства» – зола, уголь, огарки лучин.
Знахари умело сочетали как иррациональные, так и рациональные способы воздействия на человека, используя в том числе психотерапевтические средства. Так, например, боли в пояснице (утин) врачевали, применяя веник-голик и топор. Больного помещали на пороге и ритмично постукивали топором по венику, дополняя лечение ритуальным диалогом. Когда болезнь вызывалась «нутряной» порчей, воспринимающейся как инородное тело в организме (змея, лягушка, черви), попавшее внутрь при нарушении определенных запретов («Встала это я, в полдень, у ручья в наклонку, – рассказывала баба о моменте своего заболевания, – не перекрестилась, да и пью.
Вдруг, как юркнет мне что-то в самую середку, так вот сразу и вступило» (Попов, 1903), тогда страждущего поили парным молоком с добавлением конопляного масла, вызывая рвоту для выхода порчи. Понятно, что в первую очередь здесь имел место не физический, а скорее психологический эффект и твердая уверенность больного в положительном результате лечения.
Если заболевание вызывалось «естественными» причинами, то его пытались избыть природными же средствами – травами, минералами, ингредиентами, получаемыми из животных: кровью, салом, желчью, костями и пр.
Свойства лекарственных трав фиксировались в письменных, а позже и в печатных источниках, получивших название зеленников, травников, вертоградов. В белорусской народной традиции при зубной боли, кашле и простуде использовался чеснок. «Вот дзе пульсы б’юцца, часнок разрэжаш тонкамі слаямі і вот так наложыш, і крэпка ўвяжыш. Тады зубы перастаюць балець» (Полоцкий р-н) (Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння …, 2006: 140). Крапивой в народе лечили ревматизм и больную спину. При заготовке лекарственного сырья имели значение место и время сбора трав, их правильное хранение.
Еще одной заметной фигурой народной медицины являлся колдун. Он также обладал особыми знаниями, но связан был с нечистой силой, которую часто применял для нанесения вреда людям. Крестьяне боялись таких личностей, считалось, что они способны насылать порчу на семью, скот, посевы. Мужчины обходили дом чернокнижника стороной, опасаясь получить половую слабость. В ворожбе чародей использовал травы (главным образом, ядовитые или дурманящие рассудок), могильную землю, кости и ритуальные предметы (амулет, ножи, монеты и др.). Прежде чем начать свою практику, колдун должен был отречься от Бога, родителей и пообещать свою душу сатане.
Особая роль принадлежала коновалам, которые балансировали по своему положению в народном сознании между знахарями и колдунами. Они приносили явную пользу, занимаясь холощением скота, однако их подозревали в использовании и вредоносных приемов по отношению к людям. Коновалы лечили «срамные» (венерические болезни), помогали женщинам избавиться от нежелательного плода.
Помимо специалистов, занимающихся ведовством «профессионально», в случае необходимости русская женщина могла сама, следуя традициям, полечить дитя, используя заговоры и ритуалы, так как она обладала такой же силой, как и земля, порождавшая новую жизнь каждую весну. Однако с серьезными случаями мог справиться только «знающий».
Многие ритуальные действия основывались все же не столько на магии, сколько на здравом смысле и опыте. Беременным, например, рекомендовали есть клюкву и бруснику, чтобы у ребенка была здоровая и румяная кожа, а также укроп, чтобы родившийся малыш обладал густыми ресницами. Понятно, что данные ингредиенты содержали большое количество витаминов и минералов, что благотворно влияло на здоровье как будущей матери, так и ее ребенка.
Наряду с полезными веществами в ходу при осуществлении лечения были также вредные и опасные средства – сулема, киноварь, мышьяк, стрихнин, ртуть и пр.
Лечение проводили в бане, где недужного массажировали, парили, растирали, используя мёд, вино, масла. При этом произносили заговоры и нашёптывания, которые преследовали цель внушения и самовнушения. Считалось, что болезнь можно не только заговорить, но и напугать.
Народная медицина включала в себя также христианизированный элемент, который появился в практике лечения со времени крещения Руси. Священники рассматривались людьми если не как лекари, то как советчики в данной области. Издавался специальный журнал для служителей культа, который содержал не только конкретные указания для них по поводу ведения статистики о смертности от заразных заболеваний, но и материалы о прививках и методах лечения прихожан. В неофициальном разделе «Врачебные советы» помещались сведения об уходе за больными оспой, тифом, чесоткой, холерой, материалы о мерах при отравлениях. Священнослужители оказывали также и психологическую помощь больным.
Крестьяне обращались к врачам, лишь испробовав первоначально все доступные домашние средства: «…напоят больного мятой, взвалят на печку и укроют шубами и в пару натрут редькою… обратятся также к знахарю…, а если это не поможет, пойдут за советом к помещику, священнику, учителю и лишь в крайнем случае, по настоятельному совету кого-нибудь из упомянутых лиц, повезут больного в земскую больницу» (Попов, 1903: 100).
По общему мнению, кому суждено умереть, так и врач не поможет, а кому жить и здоровым быть, так тот и без лекаря обойдется. Рассуждение, как видим, носит оттенок фатализма, но при этом прослеживается также надежда на традиционный «авось».
Отношение к доктору как социально значимой фигуре определялось тем, что деревенский люд считал, что он не может лечить большинство болезней и не в состоянии помочь страждущим, так как средства, используемые медиками, зачастую были бесцветными, безвкусными и не давали немедленного эффекта: «Уж где я не была, – жаловалась одна баба, – и по дохтурамъ, и по больницам, и какая от них польза? Наболтают тебе в склянку воды, дуешь ее, дуешь, а все в животе никакой твердости нет» (Попов, 1903: 105) Традиционные же снадобья давали неплохие результаты, а знахари и повитухи были более искусными и опытными, чем плохо обученный низший медицинский персонал. Многие фельдшеры просто спивались от безысходности деревенской жизни, недостаточной оплаты своего труда и скептического отношения местного населения.
К прививкам граждане также относились подозрительно, потому что не видели в них смысла. Вакцина во многих случаях была некачественной и не оказывала нужного воздействия. Исключение, пожалуй, делалось лишь для оспопрививания. Вообще детские болезни рассматривались как Божья кара за грехи родителей.
Следует отметить и тот факт, что население в целом пренебрегало мерами дезинфекции, считая это выдумкой господ и баловством. Действенным в этом случае, по мнению народа, являлось, например, прокалывание ушей у детей, так как это предотвращало грыжу и золотуху; верили также, что ношение янтаря способно спасти от желтухи.
Беременные женщины в деревнях не прибегали к услугам профессиональных акушерок, потому что земские лечебницы находились далеко, их было мало. Кроме того, роженицы полагали, что использование медицинских инструментов и даже врачебный осмотр являются греховными и неприличными (Безгин, 2004).
Моровые заболевания, по мнению крестьян, возникали не просто так, а были следствием порчи или воздействия духа болезни. В газете «Пензенские епархиальные ведомости» эпидемия холеры описывалась следующим образом: болезнь появилась из-за «какой-то волхи», которая в виде огромной коровы бродила по окрестностям1.
При грыжах детей среди русского населения Сибири весьма популярным был способ, состоящий в том, что пойманного жука сажали на «килу» у ребенка, если насекомое кусало и отпадало само, то думали, что болезнь пройдет.
При чирьях к нарыву прикладывали печеный лук.
При лечении сотрясения мозга использовали сито или решето, которое брали в рот и аккуратно постукивали по нему.
С XIX века все более широкое распространение получает официальная медицина. В губерниях и уездах строятся больницы, госпитали, амбулатории, аптеки. В Томской губернии в 1891 году, по данным губернских новостей, не существовало ни мужских, ни женских фельдшерских школ, численность врачей составляла 52 человека, 9 из которых приходилось на военное ведомство2. В 1895 году общее число гражданских специалистов уже составило 147 человек3. «Наличность врачей в 1910 году выражалась цифрой 256»4. Однако в первую очередь это касалось крупных городов, чем дальше в глубинку и на Восток страны, тем дело обстояло хуже, наблюдалась нехватка врачей, больниц, лекарств (Миненко, 1979).
Подводя итоги, следует отметить, что отношение крестьян к медицине в XIX веке оставалось достаточно кустарным, предпочтение в методах лечения отдавалось народным средствам, в субъекте – врачевателям из крестьянской же среды, которые, специализируясь на наиболее распространенных недугах населения, имели богатый опыт лечения словом, травами и другими доступными средствами. Кроме того, определенную роль в лечении играл крестьянский фатализм и нежелание доверяться чужому человеку – профессиональному врачу, чья компетентность ставилась под сомнение ввиду отсутствия мгновенного результата от назначенного лечения и дефицита уверенности в непричинении вреда больному. Консервативность и косность крестьянского мышления не позволяли населению Российской империи в поздний период ее существования принять государственную медицину и начать пользоваться предоставляемыми ею преференциями в плане сохранения здоровья граждан.
Список литературы Специфика медицинских представлений в крестьянской среде России в период поздней империи
- Безгин В.Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX - начала ХХ века). М.; Тамбов, 2004. 304 с.
- Максимов С.В. Крестная сила, нечистая сила, неведомая сила. Кемерово, 1991. 351 с.
- Миненко Н.А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири (XVIII - первой половины XIX в.). Новосибирск, 1979. 350 с.
- Полацга этнаграфiчны зборык. Вып. 1. Народная медыцына беларусау ПадзвЫня: у 2 ч. Ч. 2. Наваполацк, 2006. 331 с.
- Попов Г. Русская народно-бытовая медицина: по материалам этнографического бюро князя В.Н. Тенишева. СПб., 1903. 404 с.