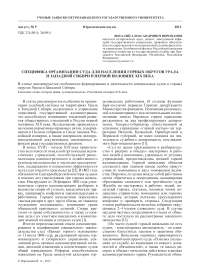Специфика организации суда для населения горных округов Урала и Западной Сибири в первой половине XIX века
Автор: Воропанов Виталий Александрович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 5 (126), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются особенности формирования и деятельности специальных судов в горных округах Урала и Западной Сибири.
История права, судопроизводство, российская империя xix века
Короткий адрес: https://sciup.org/14750167
IDR: 14750167 | УДК: 321(091);
Текст научной статьи Специфика организации суда для населения горных округов Урала и Западной Сибири в первой половине XIX века
В статье анализируются особенности организации судебной системы на территориях Урала и Западной Сибири, выделенных в управление отраслевой государственной администрации, что способствует пониманию тенденций развития общественных отношений в России первой половины XIX века. Исследование проводилось на основе нормативно-правовых актов, содержащихся в Полном собрании и Своде законов Российской империи, а также материалов делопроизводственной документации, извлеченных из фондов ряда государственных архивов.
В конце X V III – начале XIX века правите л ьство вело поиск оптимальной организации ведомственных учреждений, способствующей рационализации административного и хозяйственного руководства казенными и частными предприятиями, поддержанию и повышению эффективности металлургического производства [52]. В 1802 году обязанности Екатеринбургской конторы судных и земских дел унаследовали три горных начальства. Инструкция от 26 февраля 1802 года уполномочила горную администрацию разбирать в ведомстве споры об угодьях, владельческих правах, прекращать конфликты заводовладельцев и работников. Горным начальствам поручались «малыя распри и друг друга обиды, не тяжкому осуждению подлежащия», возникшие среди обывателей приписных селений. Споры крестьян «о праве собственности», а также уголовные дела с их участием находились в компетенции земской полиции и уездных судов [1].
Итогом переосмысления опыта администрирования и кодификации специального законодательства стал «Проект горного положения» от 13 июля 1806 года, разделивший органы горнозаводского и губернского управления, усиливший роль органов административной юстиции, внесший изменения в компетенцию судов общей юрисдикции. Реформа способствовала появлению на Урале замкнутой категории гор- нозаводских работников. В столице функции Берг-коллегии перешли Горному департаменту Министерства финансов. Положение региональной администрации с исключительными полномочиями заняло Пермское горное правление, разделенное на два профилирующих департамента. Генерал-губернатор, ответственный за успешное управление «горной частью» на территории Вятской, Казанской, Оренбургской и Пермской губерний, не имел влияния на деятельность судебного департамента, возглавленного берг-инспектором [11].
«Суд по делам гражданским и разбирательство в распрях и обидах» мастеровых и рабочих людей в поселениях, удаленных от уездных учреждений, предоставлялись низшей горной администрации. Горный начальник обязался составлять при главном заводе особое присутствие из помощника и двух чиновников ведомства. Впрочем, по делам между собой работники могли обратиться к посредникам, инициировав образование словесного или третейского суда. Жалобы на мастеровых и рабочих людей, носителей горных, статских, военных чинов подавались управителю, помощнику или горному начальнику, которые пытались урегулировать конфликт и примирить стороны. Следующим этапом разбирательств являлось избрание тяжущимися 2–4 членов словесного суда. В случае неудачи частных посредников и отказа от общего дело поступало на рассмотрение заводского начальства [13].
«По части судной горный начальник не есть судия, – констатировал законодатель, – но единственно блюститель законов и защитник обиженного». Начальник оценивал правомерность заключений конторского суда. «В малых упущениях по службе, во взыскании со всякого должностей и обязанностей», а также «в малых распрях и обидах» начальник действовал в рамках административного права. Руководители обяза- лись удовлетворять стороны «коротким словесным судом» [3]. По делам служащих, мастеровых и рабочих людей каждый горный начальник наделялся функциями адвокатуры, обязуясь не только «быть защитником в справедливости, но в случае нужды даже истцем сам собою или чрез своего депутата» [32]. В горном ведомстве создавались специальные подразделения полиции, тесно взаимодействовавшие с уездными органами правопорядка. Заводские и горные исправники вводились в состав земских судов в качестве старших членов. Полиция, контролировавшая частные заводы, подчинялась непосредственно берг-инспектору [12].
Право низшего суда на частных заводах принадлежало заводчикам, их главным поверенным, заводским конторам и заводским исправникам [7]. Заводовладельцы организовали судебное управление на основе законодательства и инструкций ведомственной администрации [49; 173–174], [51; 54–55], [55; 84–86], регламентировавшей порядок прохождения дел по инстанциям и систему наказаний за мелкие правонарушения [34].
В уездные суды, магистраты и ратуши подавались частными лицами или пересылались по подсудности горной администрацией имущественные иски населения казенных заводов; посредством заводских исправников поступали гражданские и уголовные дела обывателей частных заводов [4]. Нехватка квалификации у гражданских чиновников при разборе специфических исков, связанных с горно-промышленным сектором, возмещалась институтом «горных» депутатов, включенных в состав судов [2]. Прочие суды, магистраты и ратуши при наличии в уездах заводов также подчинялись требованиям Пермского горного правления [24]. Решения неуполномоченных судей могли быть аннулированы [41].
Высшая администрация могла инициировать перевод земских и уездных судов в «горный» город, учреждение дополнительных присутственных мест – судов, магистратов, ратуш [6]. Возможность изменений в приписке селений, городов и заводов рассматривалась с учетом нагрузки судов [28], [29], [31], [37]. Постановления судов первой инстанции передавались для контрольного просмотра горным начальникам. Несогласие местного руководителя с правовым обоснованием, а также сумма иска свыше 100 руб. влекли передачу дела в департамент горного правления [8]. В 1808 году цена иска, окончательно удовлетворявшегося уездными судами, снизилась со 100 до 25 руб., что соответствовало общей практике осуществления правосудия в первой инстанции [14]. Ревизию дел с обвинением лиц смешанной подсудности осуществляли уголовная палата или судебный департамент горного правления по сословной принадлежности главного фигуранта. В качестве депутатов в горное правление командиро- вались судья или заседатель Екатеринбургского уездного суда. Дела, поступившие из названного суда, рассматривались без «гражданского» представителя «под особым наблюдением прокурора». Для присутствия в уголовной палате назначался чиновник по распоряжению главы администрации [25]. Генерал-губернатор, уполномоченный ходатайствовать о пересмотре дел в Сенате, утверждал решения судебного департамента. В Сенат обязательно отправлялись дела с суммой исков свыше 500 руб., а также связанные с пересмотром владельческих прав на рудники, земли, леса и другие угодья [9].
В исключительных случаях законодательство предусматривало применение к гражданским лицам военно-уголовного законодательства. Население горных округов рассматривалось как состоящее в служилом сословии, от которого требовалось строгое соблюдение трудовой дисциплины [54]. Милитаризация управления казенными заводами ужесточила уголовное преследование чиновников, а также мастеровых и рабочих людей, совершивших преступления [53]. Постоянный военный суд с апреля 1802 года действовал в Екатеринбурге [36]. Согласно Горному положению 1806 года, право формировать временные военно-судные комиссии принадлежало горному начальнику. «Презес» военного суда определялся из горных или военных офицеров, 2–6 асессоров – из горных, военных или статских чинов, служивших при заводах. Суду военных комиссий подлежали «все и всех классов» лица мужского пола, совершившие уголовные преступления и состоявшие «в действительной горной службе» [5], [38].
Оправдательные и обвинительные приговоры оценивались горным начальником, обладавшим правом уменьшить степень наказания. Дела о разбоях, убийствах, умышленных поджогах с мнением начальника поступали к генерал-губернатору, также компетентному ослабить назначенное судом наказание. В 1809 году из-за некомпетентности горных чиновников право утверждения сентенций военно-судных комиссий сосредоточилось в руках генерал-губернатора [15]. Приговоры, лишавшие дворян «чести» и чинов, с мнением главы администрации отправлялись министру юстиции для обсуждения в Сенате и последующего доклада монарху [10]. Позднее главный начальник Уральского горного округа представлял приговоры о наказании классных чиновников, а также мастеров, межевщиков, пробирщиков, уставщиков и художников министру финансов для последующей передачи в Горный аудиториат [17].
Смешанный состав обвиняемых предполагал совместное разбирательство дел военными, горными офицерами и уездными судьями [16]. С 1831 года членам губернских палат уголовного суда в порядке ревизии зачитывались выписки из военно-уголовного делопроизводства об обывателях, вовлеченных в преступления военнослужащих, и сентенции комиссий [26]. В состав военных судов над гражданскими лицами и по отдельным категориям дел обязательно вводились члены уездных судов [42]. Военно-судные комиссии, созданные в связи с массовыми выступлениями, пользовались особым вниманием высшей администрации [35], [39].
В 1820-х годах новые решения по организации управления и юстиции на ведомственной территории были предприняты в связи с преобразованием системы управления в Сибири в горном округе, подчиненном Кабинету его императорского величества. Автономия округа была нарушена передачей административных, полицейских и судебных полномочий губернским органам. Томский губернатор, получивший статус начальника Колывано-Воскресенских заводов, занял положение номинального арбитра во взаимоотношениях губернских и горнозаводских структур управления [50; 7–13], [56], [58; 58]. Итоги реформы 1822–1824 годов, обусловленной сложным сочетанием общегосударственных, отраслевых и частных интересов, скорректировало и закрепило «Учреждение об управлении Колывано-Воскресенских заводов» от 16 апреля 1828 года.
Состав сельской и волостной администрации приписных крестьян, оставшихся, в отличие от уральских жителей, связанными с горнозаводским хозяйством, регулировался уездным и губернским начальством. Инструкция рекомендовала руководству округов стремиться к воздействию «на волостныя правления непосредственно», сокращая число земских управителей [18]. Управители, возглавившие волостные отделения, подчинились окружной (уездной) полиции. Они исполняли обязанности отдельных заседателей земских судов и, в частности, осуществляли предварительное следствие по уголовным делам [58; 57], разбирая маловажные внутриобщинные споры о землях и угодьях [48].
Основным звеном уездного уровня ведомственной системы управления оставались заводские (горные) конторы. Общее присутствие конторы, помимо решения специализированных вопросов, рассматривало дела о мелких преступлениях мастеровых, рабочих людей и урочников на сумму ущерба до 20 руб., ослушании начальства, первом побеге без отягчающих обстоятельств. Внутренняя организация и обязанности конторского штата регламентировались. Полномочиями горной полиции наделялся первый стол под руководством особого чиновника [21].
В Колывано-Воскресенском горном округе Кабинет его императорского величества использовал правила и опыт судопроизводства, сформировавшиеся в удельном ведомстве, где действия следователей, окружных и губернских судей контролировались специальными чиновниками, депутатами по делам приписных крестьян, уполномоченными горным начальством. С 1824 года Колывано-Воскресенский округ делился на 13 депутатских участков. Депутат Ояшинского отделения, проживая в Томске, посещал губернские учреждения. Чиновники свидетельствовали правомерность допросов, присутствовали при разборе дел, информируя горное правление, компетентное опротестовывать судебные решения [40], [57; 33]. На основании полученного в Западной Сибири опыта и «применяясь к тому порядку, как ведаются удельные крестьяне» [33], в 1828 году Министерство финансов инициировало введение депутатов по делам приписных крестьян в уездные суды Олонецкой губернии [23].
В ведомстве Кабинета его императорского величества на Алтае сохранялся репрессивный характер уголовного судопроизводства. Обеспечивая продуктивность металлургических предприятий, администрация жестко контролировала повседневную жизнь обывателей Колывано-Воскресенского горного округа [43], [45], [46]. Увеличение населения и как следствие – дел, рассматривавшихся Барнаульской комиссией военного суда, побудило начальника заводов ходатайствовать в мае 1818 года о формировании в горном округе системы постоянно действующих судебных органов. Состав трех военно-судных комиссий комплектовался из чиновников ведомства [47]. С 1828 года «по особым случаям» при заводах и рудниках могли дополнительно создаваться временные военно-судные комиссии в составе презеса из горных офицеров и 2–6 асессоров из числа как горных, так и статских чиновников, назначавшихся начальником заводов. Военному суду за совершение уголовных преступлений предавались все лица, «какого бы звания и состояния ни были», занятые исполнением обязанностей на заводах. Мастеровые, набиравшиеся рекрутским способом, «уподоблялись» военнослужащим и подлежали военному суду за преступления, совершенные до перевода на заводы, отставные служащие – за преступления, совершенные до отставки [22].
Судебные вопросы курировало 3-е отделение горного правления под надзором советника, члена присутствия. В первый стол судного отделения поступали ежемесячные ведомости о производстве военно-судных дел, числе подсудимых и лиц, взятых под стражу, а также приговоры, вынесенные ведомственными судьями. Чиновники второго стола занимались размежеванием спорных «дач», принимали сведения о следствиях, производстве и окончании дел о крестьянах, решали вопросы полицейской юрисдикции по Барнаулу, заводам и рудникам, составляли донесения Кабинету его императорского величества о происшествиях в округе [19]. В присутствие горного правления в лице 4 советников поступа- ли определения и представления военных судов, донесения общих присутственных мест и должностных лиц. В отличие от прочих постановлений, записывавшихся в журналы, судебные решения оформлялись протоколами.
Томский губернатор являлся последней инстанцией по делам военно-судных комиссий о преступлениях, отнесенных к категории тяжких: разбоях, грабежах, убийствах, поджогах и вымогательствах. Кабинет его императорского величества обладал правом ревизии приговоров горного правления об исключении со службы, лишении чинов и сословного достоинства классных и неклассных чиновников из дворян, штаб- и обер-офицерских детей, а также о наказании групп свыше 9 человек [20]. Горное начальство отвечало за исполнение решений судов общей юрисдикции посредством земских управителей [44].
Правительственные дискуссии конца 1820-х годов по вопросам преодоления производственных трудностей в сибирской сереброплавильной промышленности закончились передачей колывано-воскресенских и нерчинских предприятий на 25 лет в ведение Министерства финансов. Законодательная регламентация военно-судной деятельности обновилась. Полномочия Кабинета по военно-судным делам с 1831 году принадлежали Горному суду при судном отделении Департамента горных и соляных дел. Постановления Горного суда рассматривались в Советах Департамента и Министерства финансов и вступали в силу после утверждения министром. Приговоры о лишении чинов и дворянства требовали согласия монарха [27]. С 1837 году военно-судные дела горного ведомства отделялись от гражданских и поступали в аудиторский стол при штабе Корпуса горных инженеров. Делопроизводство осуществлялось специальной канцелярией во главе с корпусным обер-аудитором. Приговоры выносило присутствие Горного аудиториата (1837–1863 годы). Тяжебные, исковые дела, апелляционные прошения, а также материалы, пересылавшиеся из уголовных палат и Сената, по-прежнему рассматривались в судном отделении Департамента горных и соляных дел и направлялись на ревизию в Совет Корпуса горных инженеров. С выходом в 1855 году отделения Алтайских и Нерчинских заводов из Департамента горных и соляных дел военно-судные дела разбирались Горным аудиториатом в присутствии представителя Кабинета его императорского величества. Ответственность за исполнение приговоров возлагалась на Кабинет как высший орган управления сибирскими заводами [30].
Таким образом, в первой трети XIX века в условиях усиления патронажа верховной власти над отдельными категориями податного сельского населения в целях успешного правового регулирования межсословных отношений и достижения экономических результатов население, занятое заводскими службами и работами, было выделено в корпорации, подведомственные региональной отраслевой администрации. Реорганизациями в системе местного управления, пересмотром территориальной, объектной и предметной юрисдикции государственных органов правительство стремилось повысить эффективность горно-металлургических предприятий Урала и Западной Сибири. Общие судебные места Уральского горного округа не устранялись от решения дел по искам и жалобам мастеровых и рабочих людей, однако судопроизводство по ним стало осуществляться при участии ведомственного чиновника, а результаты оцениваться горной администрацией. Интересы, выходившие за пределы установленной компетенции, рассматривались специализированным департаментом горного правления. В 1822 году Кабинет его императорского величества уступил юрисдикцию над приписными крестьянами, купцами и мещанами горного ведомства на Алтае общим судам, поставив процесс по делам приписных крестьян под контроль уполномоченных депутатов, подотчетных специализированному отделению горного правления. Скорое наказание за преступления, совершенные лицами, состоявшими в горной службе, исключая женщин, проживавших при казенных заводах, достигалось на основе военно-уголовного законодательства. В горных округах востребовалась обособленная система специальных судов – постоянных и временных военно-судных комиссий.
Л. 4–6 об.
Л. 14–14 об.; Оп. 2. Д. 26. Л. 100, 125–125 об.
Список литературы Специфика организации суда для населения горных округов Урала и Западной Сибири в первой половине XIX века
- ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXVII. № 20160, 20300
- Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 24. Оп. 3. Д. 57. Л. 1-3.
- ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения для заводов хребта Уральского. Ст. 22, 25, 829, 830, 832.
- ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения для заводов хребта Уральского. Ст. 23, 354, 827, 850.
- ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения для заводов хребта Уральского. Ст. 24, 872.
- ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения для заводов хребта Уральского. Ст. 26, 855-861.
- ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения для заводов хребта Уральского. Ст. 723-725, 727.
- ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения для заводов хребта Уральского. Ст. 827.
- ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения для заводов хребта Уральского. Ст. 850.
- ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения для заводов хребта Уральского. Ст. 852, 854.
- ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Проект Горного положения для заводов хребта Уральского. Ст. 868.
- ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Частные замечания на Горное положение. Разд. VI. Ст. 2
- Проект Горного положения для заводов хребта Уральского. Ст. 36, 60-61, 68, 74, 76, 279-280, 291.
- ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Частные замечания на Горное положение. Разд. VI. Ст. 17
- Проект Горного положения для заводов хребта Уральского. Ст. 19-20, 773-775.
- ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIX. № 22208. Частные замечания на Горное положение. Разд. VI. Ст. 18
- Проект Горного положения для заводов хребта Уральского. Ст. 823-826, 828.
- ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXX. № 22976.
- ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXX. № 23980
- РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 14. Л. 185-185 об.
- ПСЗ РИ. Собр. II. Т. I. № 515
- ГАСО. Ф. 24. Оп. 11. Д. 1. Л. 2
- ГАТО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 1029. Л. 1.
- ПСЗ РИ. Собр. II. Т. I. № 687. § 45; СЗ РИ. Т. VII. Кн. II. Ст. 1573.
- ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 1960. § 8.
- ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 1960. § 15, 27-29
- Центр архивного хранения Алтайского края (ЦХАФ АК). Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Л. 4-6 об.
- ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 1960. § 40, 46-48, 84-85.
- ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 1960. § 61, 66.
- ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 1960. § 208-214
- Центр архивного хранения Алтайского края (ЦХАФ АК). Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Л. 14-14 об.; Оп. 2. Д. 26. Л. 100, 125-125 об.
- ПСЗ РИ. Собр. II. Т. III. № 2465.
- ПСЗ РИ. Собр. II. Т. IV. № 2620.
- ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VI. № 4396, 5047; СЗ РИ. Т. VII. Кн. II. Ст. 1609.
- ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VI. № 4665.
- ПСЗ РИ. Собр. II. Т. VI. № 4775.
- ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XIV. № 12574.
- ПСЗ РИ. Собр. II. Т. XVI. № 14856.
- СЗ РИ. Т. VII. Кн. I. Ст. 8-9; Кн. III. Ст. 2127-2132.
- СЗ РИ. Т. VII. Кн. II. Ст. 1529.
- СЗ РИ. Т. VII. Кн. II. Ст. 1533.
- СЗ РИ. Т. VII. Кн. III. Ст. 2125.
- Государственный архив Пермской области (ГАПО). Ф. 300. Оп. 1. Д. 21. Л. 1-2 об.
- ГАСО. Ф. 24. Оп. 11. Д. 1. Л. 5.
- ГАСО. Ф. 57. Оп. 1. Л. 7-7 об.
- ГАСО. Ф. 58. Оп. 1. Д. 1. Л. 15-16.
- ГАСО. Ф. 116. Оп. 1. Д. 1783. Л. 2 об.-596.
- ГАСО. Ф. 477. Оп. 1. Д. 1-14; Ф. 480. Оп. 1. Д. 1-43.
- Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 3. Оп. 11. Д. 459. Л. 1.
- Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан (ЦГИА РБ). Ф. 1. Оп. 1. Д. 425. Л. 11-12.
- ЦГИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2896. Л. 438.
- ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1814. Л. 495.
- ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1814. Л. 503-504 об., 529; Д. 3168. Л. 130-131, 138-138 об., 221-221 об., 596-597 об.
- ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1814. Л. 559-559 об., 605-605 об.; Д. 1932. Л. 71-71 об.
- ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1932. Л. 63.
- ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2161. Л. 12-13 об.
- ЦХАФ АК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Л. 7-8; Оп. 2. Д. 441. Л. 289-290.
- Агафонова Н. Н. Организация управления в пермских имениях Строгановых в первой половине XIX в.//Уральский исторический вестник. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1996. № 3. С. 173-181.
- Борблик Е. М. Либеральная и консервативная тенденции в организации управления горными округами Сибири в начале XIX в.//Проблемы общественно-политической и культурной жизни Сибири XIX в. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 1992. С. 3-16.
- Мельчакова О. А. Организация судопроизводства в Нижнетагильском горнозаводском хозяйстве во второй половине XVIII -начале XIX вв.//Проблемы истории России. Вып. 2: Опыт государственного строительства XV-XX вв. Екатеринбург: Волот, 1998. С. 47-62.
- Новиков И. А. Реформа управления горнозаводской промышленности Урала в начале XIX в.//Вестник Челябинского университета. Сер. «Государственное и муниципальное управление». 1998. № 1. С. 45-52.
- Павловский Н. Г. Правовой статус мастеровых и рабочих людей казенных заводов Урала в первой половине XIX в.//Власть, право и народ на Урале в эпоху феодализма. Свердловск: Уральское отделение АН СССР, 1991. С. 127-150.
- Пер ежогин А. А. Формирование института военного суда в Колывано-Воскресенском Горном округе (1747-1780 гг.)//Актуальные вопросы истории Сибири. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2002. С. 161-164.
- Положение об управлении Пермского нераздельного имения//Пермский край. Сборник сведений о Пермской губернии, издаваемый Пермским губернским статистическим комитетом. Т. 3. Пермь, 1895. С. 96-105.
- Соболева Т. Н. Причины и предпосылки административных реформ в Кабинетском районе Западной Сибири во второй половине XVIII-XIX вв.//Актуальные вопросы истории Сибири. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2002. С. 151-154.
- Соболева Т. Н. Управление приписными крестьянами Алтайского горного округа в 20-50-е гг. XIX в.//Хозяйственное освоение Сибири. История, историография, источниковедение. Вып. 1. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1991. С. 29-36.
- Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки истории Кабинетского хозяйства на Алтае (вторая половина XVIII -первая половина XIX в.). Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 1997. 258 с.