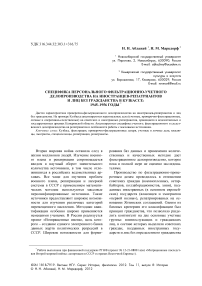Специфика персонального фильтрационно-учетного делопроизводства на иностранцев-репатриантов и лиц без гражданства в Кузбассе: 1945–1956 годы
Автор: Аблажей Наталья Николаевна, Маркдорф Наталья Михайловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 8 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Дается характеристика проверочно-фильтрационного делопроизводства на иностранцев-репатриантов и лиц без гражданства. На примере Кузбасса анализируютсяперсональные дела (учетные, проверочно-фильтрационные, личные и оперативно-следственные) на советских и иностранных репатриантов, хранящиеся в ведомственных и государственных архивах Кемеровской области. Анализируются специфика учетного, фильтрационного и следственного делопроизводства на репатриантов иособенности работы с массовыми источникам.
Кузбасс, фильтрация, проверочно-фильтрационные лагеря, учетные и личные дела, власовцы, эмигранты, спецпоселенцы, репатриация, репатрианты
Короткий адрес: https://sciup.org/14737905
IDR: 14737905 | УДК: 316.344.32:303.1+316.75
Текст научной статьи Специфика персонального фильтрационно-учетного делопроизводства на иностранцев-репатриантов и лиц без гражданства в Кузбассе: 1945–1956 годы
Вторая мировая война оставила след в жизни миллионов людей. Изучение военного плена и репатриации сопровождается вводом в научный оборот значительного количества источников, в том числе отложившихся в российских ведомственных архивах. Все чаще для изучения проблем военного плена, репатриации и лагерной системы в СССР с применением математических методик используются массовые персонифицированные источники. Такие источники предоставляют широкие возможности для изучения различных категорий перемещенного населения. Методики квантификации особенно широко применяются немецкими учеными. В России реализуется проект «Возвращенные имена», цель которого – создание единого электронного банка данных жертв политических репрессий в СССР. Широкие возможности для форми- рования баз данных и применения количественных и качественных методик дает фильтрационное делопроизводство, которое пока в полной мере не оценено исследователями.
Производство по фильтрационно-проверочным делам проводилось в отношении советских граждан (военнопленных, остар-байтеров, коллаборационистов, хиви), подданных иностранных (в основном европейских) государств (власовцев и эмигрантов «первой волны»), репатриированых на основании Ялтинских соглашений. Одним из базовых критериев его классификации был принцип гражданства, что позволяло разделить контингент на две основные учетные группы: военнослужащих и гражданских лиц, в составе которых выделяли советских граждан, подданных иностранных государств и лиц без определенного гражданства
(эмигрантов, считавших себя подданными Российской империи). Дальнейшая дифференциация контингента складывалась в процессе последующих проверок, по итогам которых заводились учетные, фильтрационные, оперативно-следственные дела на подозреваемых, обвиняемых, находящихся в процессе агентурно-оперативной разработки лиц, и дела-формуляры на военных преступников, агентов, шпионов иностранных разведок, участников враждебных по отношению к СССР контрреволюционных организаций (РОВС, ПЦБ и др.), вина которых была полностью доказана.
В период Великой Отечественной войны на основании ряда директив и постановлений Государственного комитета обороны (ГКО) и НКВД–НКГБ СССР как советские граждане (находившиеся в плену, окружении или оказавшиеся на оккупированной территории), так и иностранцы и лица без гражданства в обязательном порядке подлежали учету и проходили фильтрацию. Основной ее объем приходился на период войны и первые послевоенные годы. Проверка подучетного контингента зависела от его количества и проводилась постоянно вплоть до 1956 г.
Первичная фильтрация советских граждан и иностранцев осуществлялась на сборно-пересылочных пунктах (СПП), проверочно-фильтрационных пунктах (ПФП), в проверочно-фильтрационных лагерях (ПФЛ) и специальных лагерях, действовавших в Европе в зоне советской оккупации. Репатрианты, оказавшиеся на территории союзников, попадали сначала в сборные пункты или передавались непосредственно репатриационным миссиям, а затем направлялись в приемно-пересыльные и сборно-пересыльные пункты на демаркационной линии между зонами СССР и союзников. ГУПВИ МВД вводился и новый перечень «окрасов» преступлений. В соответствии с директивами 1945 г. Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации и начальника тыла армии все репатрианты поступали в распоряжение НКВД и через прифронтовые ПФЛ и СПП направлялись в отдаленные регионы СССР. В зависимости от градации репатриантов определялись их дальнейшая фильтрация и направление либо в тыловые ПФЛ (советские и иностранные военнопленные; интернированные гражданские лица, подданные Германии; военнослужащие немец- ких строевых формирований), либо на спецпоселение (остарбайтеры, угнанные на работу в Германию, проживавшие на оккупированной территории и подозреваемые в сотрудничестве с оккупационными властями лица). Завершали работу по фильтрации территориальные органы МВД и опер-отделы в лагерях для военнопленных.
Проходившие фильтрацию иностранцы и лица без гражданства в лагерях для военнопленных объединялись в группу В «власовцы» («власовцы и белоэмигранты», или «репатрианты»), под которыми подразумевались, во-первых, участники национальных строевых формирований вермахта 1 и восточных легионов (русских, татарских, узбекских, таджикских, армянских, азербайджанских); во-вторых, участники белоэмигрантских организаций, служившие в немецких строевых формированиях, и бывшие военнослужащие русской (царской) армии. В эту группу входили также члены семей казаков Казачьего стана.
К ним относились и эмигранты из Китая, арестованные СМЕРШ в ходе Маньчжурской стратегической операции. Все эти категории проходили фильтрацию в ПФЛ и в лагерях НКВД СССР для военнопленных. Оставшиеся после арестов и дополнительной проверки были переведены в категорию «военнопленные». Малолетние дети без родителей, подростки, не достигшие 14 лет, до их совершеннолетия распределялись в специальные детские дома и приемники в Ста-линске, Кемерове, Киселевске и Прокопьевске 2.
С конца 1944 г. в Кузбассе действовали три отделения ПФЛ № 0314 (управление лагеря находилось в Кемерове) и 11 отделений ПФЛ № 0315 (Прокопьевск) 3, розыскную и следственную деятельность в которых осуществлял ОКР СМЕРШ НКВД ЗапСибВО. По состоянию на 25 августа 1945 г. в ПФЛ № 0315 были сосредоточены:
«власовцы» – 18 721 чел.; «белоэмигранты» – офицеры и солдаты Русского Охранного Корпуса – 331 чел.; 775 женщин и 289 детей 4. Из них в шести отделениях лагеря № 525 НКВД СССР для военнопленных – 6 060 чел., или 17,4 % от поступившего за 1945 г. в Кемеровскую область контингента пленных и интернированных 5.
Судя по отчетной документации, за период существования (12.10.1944–01.06.1946) ПФЛ № 0314 осуществлял фильтрацию 5 579 рядовых «власовцев» и 7 582 лиц, не служивших в армиях противника. После проверки контингент передавался в лагеря и рабочие батальоны (1 373 чел.); на спецпо-селение (4 456 чел.); распределялся в ведение различных хозяйственных организаций (4 750 чел.) или отправлялся по месту жительства – нетрудоспособные, лица преклонного возраста, беременные женщины (1 431 чел.) 6.
В августе 1945 г. 6 065 немцев и всех офицеров (или 17,4 % от общего числа контингента военнопленных, поступившего в лагеря Кемеровской области за 1945 г.) 7 вывели в новую зону в г. Прокопьевске, а затем распределили по отделениям лагеря № 525 . Рядовой состав «власовцев» вместе с семьями оставили в лаготделении № 6 пос. Зенково Прокопьевского района и после фильтрации передавали в постоянные кадры угольной промышленности с режимом спецпоселения в Сталинском, Прокопьевском, Таштагольском и Кемеровском районах. Решение по всем передвижениям и дальнейшей дислокации лагерного контингента принимало ОПВИ УНКВД по Кемеровской области 8.
В 1945–1949 гг. фильтрация контингента проводилась постоянно. По итогам проверки 55,2 % было передано на спецпоселение в Сталинский и Прокопьевский ГО МВД (1945–1948 гг.) 9, отправлено в тюрьмы (№ 2 г. Прокопьевска и № 3 г. Сталинска) и после отбытия наказания возвращено в лагерь –
7,9 % 10. В марте 1948 г. после фильтрации оперативным отделом из категории «военнопленные» в категорию «власовцы» было переведено 604 чел. (9,96 %) 11. К этому времени в лагере № 525 содержалось 168 казаков-эмигрантов и 606 режимных «власовцев» 12. В отношении офицеров агентурно-розыскная работа велась непрерывно, в отличие от «власовцев» эта категория передавалась на спецпоселение только в крайнем случае (8 чел. за 1945–1949 гг.) 13. В ходе массовой репатриации (февраль-сентябрь 1949 г.) последние 48 подучетных офицеров-белоэмигрантов были направлены для дальнейшего отбытия срока наказания в режимный лагерь № 476 на Урале и в режимный офицерский лагерь № 27, расположенный в г. Красногорске Московской области .
В ПФЛ № 0315 проверкой было охвачено 26 917 чел., выявлено 12 030 немецких пособников и лиц, служивших в немецких строевых формированиях. Фильтрация первой категории лиц в основном была закончена к январю 1946 г. Всего по спискам и ориентировкам ОКР СМЕРШ было арестовано 512 чел., из которых разоблачено 211 разведчиков и контрразведчиков; 184 дела-формуляра заведены по шпионажу; выявлены 483 чел., имевших существенное сходство с разыскиваемыми государственными и военными преступниками, доказана тождественность 145 военных преступников и подтверждена документально их деятельность на оккупированной территории СССР 14.
В сентябре–декабре 1947 г. в Кемеровскую область (Сталинск, Белово и Салаир) было распределено 417 из 6 тыс. добровольно прибывших в СССР реэмигрантов из Китая 15. Первичная проверка проводилась в лагере № 380 ГУПВИ в порту Находка. Работу с репатриантами курировал 4-й отдел МВД. Все прибывшие ставились на оперативный учет МГБ. Реэмигранты из Китая проверялись на политическую благонадежность и связи с японской разведкой. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. репрессиям подвергся почти каждый десятый репатриант.
На оперативном учете «репатрианты» находились до 1956 г., после чего их дела были переданы на спецхранение. Ценный и уникальный корпус документов, судя по характеру содержащейся в них информации, лишь частично рассекреченный в настоящее время, представлен материалами специального делопроизводства НКВД–МВД: а) делами оперативного учета и групповой оперативной разработки; б) делами-формулярами (термин отменен в 1954 г.); в) розыскными делами на скрывавшихся от преследования органов советской власти государственных преступников; г) делами оперативного наблюдения на отбывших наказание государственных преступников; д) делами оперативной, специальной проверки (фильтрации) подозреваемых в проведении враждебной к СССР деятельности лиц (фильтрационно-проверочные дела); е) архивно-следственными делами.
В результате рассекречивания личных дел репатриированных граждан в региональных архивах Кузбасса отложился огромный комплекс дел, заведенных в процессе фильтрации и учета прибывших. Фильтрационнопроверочные, учетные, оперативного наблюдения и розыскные дела, как и дела-формуляры, имеют типовую структуру и могут рассматриваться как массовый источник в отношении всех подучетных категорий, прошедших фильтрацию. Фильтрационно-проверочные дела содержат стереотипный набор сведений, полученных в результате целенаправленных аналитических процедур, что позволяет использовать их как массовый источник, в том числе при составлении формализованных баз данных. Абсолютное большинство ПФД – это дела на советских граждан, военнопленных, репатриантов и перемещенных лиц. В каждом регионе комплекс ФПД различен, в среднем для крупных сибирских и уральских регионов он превышает 20–30 тыс. единиц хранения.
В основе учетных, оперативных и фильтрационных дел лежат персональные данные и материалы оперативного планового учета и проверок, проведенных в ходе агентурнооперативных мероприятий. Эти дела, как правило, имеют следующую структуру: справка о снятии проходящего по фильтрационному делу репатрианта с оперативносправочного учета (начиная с 1954 г.), регистрационный лист, анкета или опросный лист, протоколы допросов, справки о наличии компрометирующего материала, заключение по фильтрационному или оперативноучетному делу, карточки с данными о прохождении фильтрации, немецкие регистрационные карточки (personalkarte, arbeit-karte), документы личного характера (паспорт, личные письма, фотографии). В рассекреченных материалах оперативных учетных дел содержится информация о месте, времени, обстоятельствах пленения, вербовки в немецкие строевые соединения, содержании в лагере (на спецпоселении), побегах и прочих нарушениях режима, материалы местного розыска, маршрутные листы по всем передвижениям контингента.
Подучетные категории, на которых, как правило, были заведены оперативные, учетные, дела-формуляры – «оуновцы», «изменники родине», «шпионы и агенты (японской, немецкой, американской, китайской, польской и других) разведок», «офицеры царской армии», «реэмигранты из Китая, Финляндии, Австрии, Германии», «эмигранты и члены их семей».
Дела-формуляры были заведены по обвинению в преступлениях, совершенных против социалистического государства и советского народа, за различные правонарушения режима в лагере или на спецпосе-лении (побеги, хищения, самовольный уход с места спецпоселения и пр.) и «шпионаж в пользу иностранных разведок», «изменники», «связь с заграницей», «антисоветские настроения, агитация и пропаганда», «предатели», «провокаторы», «пособники», «участники контрреволюционных организаций». Перечень окрасов изменялся в зависимости от политических и идеологических задач, определяемых органами ГУПВИ НКВД–МВД СССР на протяжении 1945– 1949 гг. В эти дела входили материалы опросов, допросов и проверок, осуществлявшихся через территориальные органы НКВД по месту последнего места жительства (советских граждан), допросы свидетелей (по иностранцам). В большинство ПФД и дел-формуляров, заведенных на советских граждан, кроме анкеты или опросного лис- та, в обязательном порядке включалась «анкета на гражданина СССР, возвратившегося в СССР через ……… границу», в которую помимо биографических входили сведения о времени и месте судимости, обстоятельствах пленения и освобождения, о том, вызывался или нет на допросы, о способах сотрудничества с оккупационными властями, а также свидетельские показания, дактилоскопия. Дополняли дела постановления оперуполномоченных, рассматривавших дело, с указанием краткой информации о службе в армии противника, участии в боях, на основании которой и избиралась мера наказания. В случае перевода подучетного лица в другой регион его дело поступало в Отдел спецпереселения.
Проверочно-фильтрационное, учетное, оперативно-следственное делопроизводство велось на русском языке, за исключением тех случаев, когда фигурант не знал русского языка. В этом случае часть документов (протоколы допросов, постановления и иные документы) оформлялись на родном языке подучетного лица с обязательным переводом и подписями переводчика и самого фигуранта. В случае выявленных нарушений делопроизводства дело в обязательном порядке возвращалось по месту его формирования и приводилось в соответствие с действующими инструкциями.
Протокол допроса также рекомендовалось оформлять в строгом соответствии с инструкцией. Однако только в части дел протоколы выполнялись на типовых телеграфных бланках, но в основном от руки. Строился протокол в форме вопросов и ответов, касающихся обстоятельств, времени и места пленения, участия в боевых действиях и, по сути, в более пространной форме дополнял опросные листы. С целью подтверждения необходимой оперативной информации применялись агентурные данные и негласные допросы свидетелей. Полученные оперативным путем агентурные сведения могли стать причиной ужесточения наказания.
К числу уникальных документов относятся включенные в проверочные, оперативные и следственные дела обращения фигурантов к руководству страны, лично Сталину, Молотову, Калинину с просьбой признать незаконность примененного наказания и разобраться в их личном деле. Как правило, реакцией на эти письма являлась служебная переписка региональных органов на местах, а их авторы подвергались дополнительной проверке.
Во все вышеперечисленные дела должны были включаться медицинские справки и акты медицинского освидетельствования за подписью трех врачей, но и здесь мы имеем дело с повсеместным нарушением инструкций. В большинстве дел этот документ довольно лаконично констатировал, что репатриант здоров и не нуждается в лечении.
Как особую подгруппу можно выделить материалы на реэмигрантов, добровольно вернувшихся в СССР. Фильтрационные дела бывших реэмигрантов, добровольно принявших советское гражданство и прибывших в СССР из Китая, по структуре схожи с фильтрационными делами иностранцев, военнопленных и гражданских лиц, принудительно возвращенных в СССР из Финляндии, Австрии, Германии и размещенных в Кемеровской области. Дела имеют следующую структуру: опросные или анкетные листы, как правило, с фотографиями, автобиографические документы, регистрационные листы или регистрационные карточки, составленные в фильтрационных пунктах, фильтрационные карточки (именуемые ре-эмигрантскими карточками), заявления на въезд в СССР, анкеты на получение въездной визы в СССР, заключение по фильтрационному делу, справка о снятии проходящего по фильтрационному делу репатрианта с оперативно-справочного учета (начиная с 1954 г.), документы личного характера или «вещдоки». В отдельных делах имеются протоколы допросов, содержащие сведения об эмигрантском периоде жизни (чаще всего это данные об участии в эмигрантских организациях и фактах коллаборационизма), агентурные донесения, обвинительные заключения и приговоры. Материалы, касающиеся агентурных разработок, протоколы допросов, показания свидетелей, как правило, тенденциозны и фальсифицированы. Наибольшую достоверность содержат материалы автобиографического характера. Хотя дела персонифицированы и оформлены на главу семьи, ПФД зачастую содержат также информацию о семье в целом.
Помимо ПФД на всех лиц из числа подучетных категорий, в отношении которых проводились следственные и судебные мероприятия, были заведены следственные дела 16. Архивно-следственные дела логично дополняют комплекс ФПД. Все эти дела заведены на тех, кто был арестован уже по месту прибытия во время прохождения государственной проверки в тыловом ПФЛ и осужден Военным трибуналом или Особым совещанием при МГБ СССР на основании УК РФ в редакции 1926 г. Выписки и извлечения из наиболее значимых дел включались в докладные записки по агентурнооперативной и следственной работе, представляющие собой многостраничные тома и хранящиеся в ведомственных архивах.
На репатриантов, переданных в постоянные кадры угольной промышленности с режимом спецпоселения, типовые личные дела оформлялись городскими и районными отделами (отделения) НКВД–МВД и ОСП МВД–УМВД и непосредственно подчиненными им комендатурами. Проверочнофильтрационные материалы составляли часть учетного дела репатрианта, а изъятые в ходе фильтрации документы (паспорта, свидетельства о браке, рождении) включались в него 17. По категориям («окрасу») и учету спецконтингента, репатриированного в Кузбасс, различались «фольксдойче», разные категории «немцев», «репатрианты», «власовцы» и репатрианты из числа депортированных в годы войны этнических контингентов (поляки, украинские националисты, эмигранты, репатрианты из Китая и Монголии, литовцы и др.) 18.
Данные материалы, находившиеся на хранении в областных управлениях ФСБ РФ, частично переданы в 1990-е гг. в виде особых фильтрационных фондов в региональные государственные архивы, а в ряде случаев – в государственные архивы административных органов. Значительный массив также содержится в региональных архивах МВД (региональных информационных центрах ГУВД). Основной массив личных дел спецпосленцев из числа репатриантов хранится в местных архивах ГУВД. Часть учетных и фильтрационных дел была передана по окончании режима спецпоселения в 1950-х гг. по месту жительства граждан или сосредоточена в архивах ФСБ. «Разбросанность» материалов по архивам России создает для исследователей определенные трудности в сборе необходимой информации по региональной истории, усложняет подсчет количественных данных о численности контингента и его различных категорий. Несмотря на то, что большинство этих документов рассекречено, так как делопроизводство по ним прекращено, исследователям приходится сталкиваться с ограничениями в доступе и использовании. Доступ исследователей к прекращенным ФПД осуществляется на основании приказа МВД, ФСБ и Министерства культуры и массовых коммуникаций за № 375/584/352 от 25 июля 2006 г.
Наличие огромного массива проверочнофильтрационных и архивно-следственных дел на репатриированных иностранцев и лиц без гражданств, репатриированных, проходивших «фильтрацию», уникальны по содержанию и являются ценным источником для исследования проблем плена, репатриации и реэмиграции.
Материал поступил в редколлегию 14.04.2012