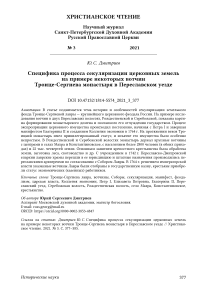Специфика процесса секуляризации церковных земель на примере некоторых вотчин Троице-Сергиева монастыря в Переславском уезде
Автор: Дмитриев Юрий Сергеевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 (98), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимается тема истории и особенностей секуляризации земельного фонда Троице-Сергиевой лавры - крупнейшего церковного феодала России. На примере исследования вотчин в двух Переславских волостях, Рождественской и Серебожской, показана картина формирования монастырского домена и поэтапного его отчуждения государством. Процесс экспроприации церковного имущества происходил постепенно, начиная с Петра I и завершая манифестом Екатерины II и созданием Коллегии экономии в 1764 г. На протяжении веков Троицкий монастырь имел привилегированный статус, и изъятие его имущества было особенно непростым. В Рождественской и Серебожской волостях монастырь держал крупные вотчины с центрами в селах Махра и Константиновское, с населением более 2800 человек (в обоих приходах) и 22 тыс. четвертей земли. Основным занятием крепостного крестьянства была обработка земли, заготовка леса, скотоводство и др. С учреждением в 1742 г. Переславско-Дмитровской епархии лаврские храмы перешли в ее юрисдикцию и штатные назначения производились переславскими архиереями по согласованию с Собором Лавры. В 1764 г. решением императорской власти указанные вотчины Лавры были отобраны в государственную казну, крестьяне приобрели статус экономических (казенных) работников.
Троице-Сергиева лавра, вотчины, Соборы, секуляризация, манифест, феодализм, царская власть, Коллегия экономии, Петр I, Елизавета Петровна, Екатерина II, Пере-славский уезд, Серебожская волость, Рождественская волость, село Махра, Константиновское, крестьянство
Короткий адрес: https://sciup.org/140257078
IDR: 140257078 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_3_377
Текст научной статьи Специфика процесса секуляризации церковных земель на примере некоторых вотчин Троице-Сергиева монастыря в Переславском уезде
Со времен великого князя Ивана III государственная власть была обеспокоена ростом церковного землевладения и искала пути его ограничения. Стремление государства изъять недвижимое имущество Церкви приобрело необратимый характер при императоре Петре I и его преемниках. Среди крупнейших церковных феодалов был Троице-Сергиев монастырь, обладавший особой значимостью и привилегированным статусом. Секуляризация его имущества представляло собой предприятие особо сложного характера в силу исключительного положения обители, ее духовного авторитета в народе. Земельный фонд Лавры складывался поэтапно в течение нескольких столетий (начиная с XV в.) и к 1764 г. насчитывал несколько тысяч десятин1 в 50 уездах империи, из них в Переславском уезде 21 969 четвертей2 земли (НИОР РГБ. Ф. 303.I. № 679. Л. 171). Значительные крупные латифундии монастырь имел в юго-западной части Переславского удела: в Рождественской и Серебожской волостях, пример проведения секуляризации в которых и приводится в предлагаемой статье.
Первые земельные приобретения Сергиева монастыря относятся к периоду игуменства прп. Никона Радонежского (†17.11.1426), при котором обитель начала усердно приобретать вотчины и получать крупные земельные вклады [Голубинский, 1902, 123]. Первые вотчины Троицкого монастыря располагались в Радонежском, Дмитровском, Московском, Переславском, Угличском уездах [Алексеев, 1966, 52]. «Здесь всегда корпорация имела и наращивала свои наиболее крупные, многочисленные, нередко тесно расположенные и плотно заселенные земледельческо-промысловые вотчины» [Черкасова, 2004, 83]. К началу 1580-х гг. монастырь располагал более чем 8 крупными земельными комплексами с обширными лесными и рыбными угодьями и развитым соляным промыслом [Алексеев, 1966, 87].
Поощряя феодальные приобретения, государственная власть издавала особые льготно-иммунитетные грамоты, создавшие в итоге привилегированный статус Троицкого монастыря как крупного и автономного феодального центра. Основным источником широких монастырских прав были жалованные и указные грамоты великих и удельных князей и царей.
Особые иммунитетные права Троицкого монастыря, обилие у него крупных земельных вотчин стало предметом беспокойства правительства в конце XV в. Противниками широкого церковного землевладения были великие князья Иван III и Василий III [Алексеев, 1966, 95]. Уже тогда ликвидация монастырского землевладения отвечала первостепенным потребностям военно-служилого класса и феодального государства, утверждал проф. А.А. Зимин [Зимин, 1982, 199]. Попытка партии нестя-жателей на Соборах 1503 и 1551 гг. ограничить рост монастырского землевладения оказалась неуспешной (Стоглавый Собор; 75-я глава «О неприкосновенности церковной собственности и запрете изъятия ее»).
Во второй половине правления Ивана IV монастыри приобрели вотчин, по оценке С. Веселовского, не меньше чем за предшествующие 100 лет. В 1552–1582 гг. из общего количества потерянных в это время княжеско-дворянских владений (621 вотчина) 99% досталось монастырям [Веселовский, 1947, 96–97], и в первую очередь главному из них — Троице-Сергиеву.
Московским Соборам 1580 и 1584 гг. удалось в некоторой степени ограничить монастырские земельные притязания: церквам и монастырям запрещалось приобретать земли (и давать закладные), а вотчинникам — отдавать свои владения в счет поминовения, так же объявлялась конфискация княжеских вотчин, переданных монастырям [Черепнин, 1978, 121-122]. Приговор 1584 г. подтвердил решения Собора 1580 г. и дополнил их ликвидацией тарханов. Это постановление стало «поворотным моментом в истории податных привилегий духовенства, как уложение 1580 г. — в истории монастырского землевладения» [Веселовский, 1947, 94].
Однако все вышеозначенные ограничительные меры правительства лишь условно касались прав Троицкого монастыря. Самодержавие неоднократно само нарушало общие правила, жертвуя Троицкому монастырю новые земли (как было при последних Рюриковичах и первых Романовых). В течение всего ХVI в. наблюдался активный рост монастырского землевладения в Рождественской волости, а в XVII в. — в Сере-божской волости (в 1650 г. Алексей Михайлович пожаловал дворцовое село Констан -тиновское, с деревнями, Троицкому монастырю).
В силу отсутствия системности секулярные тенденции правительства теряли свою константу. Этому способствовала в том числе и превалировавшая с нач. XVI в. ио-сифлянская идеология [Алексеев, 1966, 140] (частью которой была теория «симфонии властей»). На рубеже ХVIII в. и чуть ранее, при Алексее Михайловиче (выигравшем противостояние с патриархом Никоном), происходит перелом во взгляде на церковное имущество, и больше — на роль Церкви в государстве. Обезглавив иерархию, ликвидировав патриаршество, Петр I взялся за внутреннюю организацию Церкви по образцу европейских протестантов. Огромные церковные владения, их автономность ощущались как алогизм в системе абсолютной монархии. Но царь Петр, чьи предшественники ежегодно совершали «троицкие походы», и сам нашедший спасение и поддержку в Сергиевой обители (1682, 1689 гг.), не решился на конфискацию монастырских земель, что было бы обязательной частью общецерковной секуляризации.
И тем не менее еще при патриархе Адриане Петр начал наступление на монашество: специальный указ 1696 г. предписывал обязательный ежегодный архиерейский отчет о доходах и расходах монастырей и кафедр в Приказ Большого дворца [Смолич, 1997, 268]. В 1701 г. были уничтожены льготы, сохраненные монастырям в Уложении 1649 г. В том же году был восстановлен закрытый в 1677 г. Монастырский приказ (преобразован в Камер-контору в 1725 г.). Архиереи и монастыри оказались практически отстраненными от управления своими хозяйствами: «все церковные имущества, вотчины с населением 118 000 крестьянских дворов, оброчные статьи, церковные вклады… все было передано названному приказу» [Шмурло, 1922, 312–313]. С 1726 г. Камер-контора называлась Коллегией экономии Синодального правления, с 1738– 1744 гг. подчинялась Сенату, затем снова Синоду [Карташев, 1999, 443].
Процесс отторжения церковных земель замедлился при императрицах Анне Иоанновне и Елизавете Петровне в силу личной религиозности обеих. Как представитель абсолютистской системы, Елизавета Петровна осознавала неотвратимость церковноимущественной реформы. В 1757 г. она создала особую Конференцию по разработке церковной секуляризации, тогда же был издан именной указ о начале реформы [Карташев, 1999, 444]. Духовенство, по выражению А. В. Карташева, стало оказывать «приватное, закулисное» давление («Ее убеждали, что все нужные государству реальные и денежные доходы с церковных имений можно получить и с их духовных владельцев»), и императрица отказалась от проведения секуляризации [Карташев, 1999, 444]3.
В январе 1762 г. на российский престол взошел Петр III — представитель Голь-штейн-Готторпской ветви династии Ольденбургов; годом позже власть оказалась в руках его жены и троюродной сестры, бывшей лютеранки Екатерины II. Эти правители форсированно завершили многовековой процесс церковной секуляризации. Потомок скандинавских и немецких суверенов, известных поборников протестантизма, Петр Федорович словно продолжал семейную традицию по борьбе с правами Церкви. После своего воцарения он издает указы об усилении государственного надзора за церковными вотчинами и реализации елизаветинских проектов [Карташев, 1999, 446].
21 марта 1762 г. Петр III подписывает манифест о полной секуляризации недвижимых архиерейских и монастырских имуществ. Для управления синодальными и монастырскими вотчинами учреждалась Коллегия экономии, с бывших монастырских крестьян предписывалось взымать подушный однорублевый сбор пользу государства
(ПСЗРИ, собр. I, XV, 949-951). Но нововведения монарха-пруссофила были игнорированы мощной дворянско-церковной оппозицией. Более успешными были действия его супруги.
Екатерина II учредила Особую комиссию по подготовке к секуляризации. Состав этой комиссии был подобран таким образом, чтобы исключить всякое противодействие реформам. В течение года эта комиссия (о духовных имениях) подготовила важнейшие законопроекты, которые легли в основу церковной секуляризации. В то же время архимандрит Троицкого монастыря Лаврентий подал Екатерине соборное прошение, в котором выражалась просьба о сохранении прежних льгот для Лавры, в виде исключения («не в образец другим монастырям») (НИОР РГБ. Ф. 303. I. № 866. Л. 1–3).
Итогом работы Комиссии и Коллегии экономии, воссозданной 12.05.1763 г., стало издание 26 февраля 1764 г. императорского указа и приложенного к нему манифеста о секуляризации монастырских земель в пользу государства. В манифесте приводились данные последней ревизии, по которой Российской Церкви принадлежало 910 866 душ (мужского пола). Из них Троице-Сергиева лавра (с приписными монастырями) владела более чем 105 тысячами (по ведомости 1753 г.)4 крепостных душ (по табели Св. Синода 1.01.1762 г. — 105 961 человек) [Завьялов, 1900, 348].
В Переславском уезде в крупных вотчинах Рождественской и Серебожской волости, центрами которых были села Махра и Константиновское, соответственно, по данным Исповедных ведомостей 1758 г., в Махринском приходе числилось: 1210 человек обоего пола, крепостных, церковных и дворовых людей (605 мужчин, 604 женщины) (ГАВО. Ф. 556. Оп. 107. Д. 9. Л. 1079). По Константиновским приходам: в Архангельском приходе — 505 душ обоего пола (251 мужчина, в т. ч. 15 церковников, 254 женщины), в Сретенском приходе 1090 человек обоего пола (540 мужчин, 554 женщины) (ГАВО. Ф. 556. Оп. 107. Д. 9. Л. 262-262 об., 268 об.). Всего в обеих волостях проживало более 2 810 прихожан лаврских храмов, вместе с крепостными, церковными и дворовыми людьми (не считая население с. Шеметово, пог. Иоакиманна, с. Никульского). Из них Сергиевой лавре было приписано более 93% населения волостей (исключая дворян, их крепостных людей, а также разночинцев).
По данным Табели Святейшего Синода, представленным обер-прокурором князем А. С. Козловским в 1762 г., денежный доход с Троицких вотчин составлял 56 тысяч 292 рубля в год, хлеба — 37 тысяч 89 четвертей [Завьялов, 1900, 347–348].
Автономность монастыря в хозяйственной, административно-судебной деятельности, как правило, способствовала оптимизации существования крестьянства и ведения им земледелия. До 1625 г. преимущества крестьян Троице-Сергиева монастыря сводились к следующему:
-
– они освобождались от всяких податей, работ, сборов и повинностей земской службы5;
-
– торговые пошлины не налагались при покупке или продаже чего-либо для монастыря;
-
– административно-уголовное производство над крепостными принадлежало собору старцев (с 1541 г. — включая смертоубийство, татьбу и разбой: «лихих людей, татей и разбойников обыскивати и управу и казнь им чинити самим»);
-
– суд крепостных людей с городскими или волостными происходил совместно с представителем монастыря6.
Священнослужители монастырских сел освобождались от всяких пошлин и даней митрополиту (патриарху) [Горский, 1879, 201].
Как отмечала в своем труде М. С. Черкасова, «В жалованных грамотах 1578, 1606… и 1625 гг. провозглашалась полная несудимость троицких старцев, слуг, купчин, крестьян и дворников (т. е. сельского и городского населения) от местных властей без обычного для XV–XVII вв. изъятия из ведома монастырского руководства дел по наиболее тяжким уголовным преступлениям». В отсутствии указанного ограничения видно значительное отличие жалованных грамот Троицкой обители 1570–1625 гг. от многих жалованных грамот, данных другим монастырям [Черкасова, 2004, 239].
В 1625 г. некоторые привилегии Троицкого монастыря были пересмотрены. Новая редакция жалованной грамоты 1625 г. скорректировала льготы монастыря:
-
– назначено три судных срока вместо одного, «для скорейшего решения дел» (Рождество Христово, Троицын день, 1 сентября — Симеон Летопроводец);
-
– судопроизводство над архимандритом предоставлялось патриарху (а не царю, как ранее)7 [Черкасова, 2004, 239];
-
- монастырские крестьяне больше не освобождались от сбора ямских денег, стрелецких хлебных запасов и городового острожного дела;
-
– не подтверждены прежние льготы об освобождении от пошлин при продаже монастырских запасов и от дани патриарху и архиерею для местных попов и причта;
-
- отменены пошлины с монастырских исков и присяга для стряпчих и слуг монастырских, «ходивших за делами» (НИОР РГБ. Ф. 303.I. № 527. Л. 503–505) [Горский, 1879, 202].
Во время переписи земельного фонда при Борисе Годунове, 21.12.1599 г., Троицкий монастырь получил новую привилегию — относительно монастырских вотчин было велено: монастырскую и крестьянскую пашню (живущую и пустую), положить в сошное письмо против поместных земель; «добрые» земли по 800 четей в соху, средние — по 1000 четей, а плохие (худые) — по 1200 чети. «Монастырскую пашню живущую и с тем, что пашут детеныши на монастырь, в Московском уезде и в иных городах, обелить и из сошнаго письма выложить; да и впредь с той монастырской пашни всяких своих государевых податей с посохи имати государь не велел» (Тверские акты, 1897, 71–72).
Выполняя большой объем работ на вотчинника, монастырские крестьяне, в целом, находились в менее стесненном положении, чем черные или помещичьи крестьяне, в силу указанных финансово-налоговых льгот (периодически отменяемых правительством). В свою очередь, налоговая зависимость от своего феодала для троицкого крестьянства не была привилегированной и легкой. Оброк крепостного населения, выраженный в двух видах, натуральном и денежном, был высоким и собирался регулярно. Троицкие власти привлекали крепостных к различным видам работ и сборов: от сбора копеек «на новый хрен» до строительных работ на каменоломнях (д. Богородская) и возведении монастырских стен и, самое распространенное, — земельное производство. Вопрос о преобладании земледелия или скотоводства в этих вотчинах решается путем анализа реестровых записей ХVIII в., где показания землеобработки значительнее данных о скотоводстве:
-
– с. Константиновское: на конском дворе 18 жеребчиков, на скотском — 19 овец и ярок, 2 барана, 18 ягнят;
-
- с. Махра: данные о количестве поголовья отсутствуют, но есть указание на наличие самого скотного двора и вывезенных из него овчин, войлоков, епанчей, подхомутников (НИОР РГБ. Ф. 303. №. 679. Л. 39–44).
Незначительные показатели скотоводства и более содержательная статистика зем-леобработки в совокупности дают вывод о приоритете занятости крепостных в аграрном секторе (земледелии), что подтверждает мысль Н. Рожкова о господстве земледелия над скотоводством в Переславском уезде в ХVI–ХVII вв. [Рожков, 1899, 120].
Из сопоставления учетных данных начала 1760-х гг. можно заключить, что село Константиновское располагало наибольшим количеством крепостных душ (892 души мужского пола) в лаврских вотчинах Переславского уезда (кроме Селивановой Горы — Киржач). После него наибольшая численность населения отмечена в селах Хрептово (876 чел.) и. Махра (623 чел.). Однако по количеству четвертей земли и сенных покосов (и собираемого сена), село Хрептово превосходило село Константиновское. Крестьяне села Хрептово обрабатывали 202 десятины пашенного леса, заготавливали 1410 копен сена, отправляли 15 пеших и 15 конных работников в Лавру для сева ярового хлеба, а для «жнитьбы и убрания хлеба» — 21 конных и 22 пеших крепостных, для починки мельницы — 61 человека (НИОР РГБ. Ф. 303.I. № 679. Л. 41–43 об.).
Основными посевными злаками в вотчинах Лавры были яровой овес и озимая рожь, а также ячмень, пшеница, греча; культивация льна была развита в других районах Московского государства (Дмитровский, Пошехонский, Углицкий, Ярославский, Ростовский, уезды). Небольшое количество хмеля и конопли, которые не принадлежали к элементам полевой культуры, выращивали в особых конопляниках и хмельниках при усадьбе.
Находившаяся между двумя большими лесистыми холмами, Подлипским и Махров-ским (Орлов, 1832, 26), долина реки Дубны была богата лугами, тянувшимися до села Константиновского, что обусловливало специфику оброчных работ, полноценно отраженную в хозяйственной документации Лавры. В 1761 г. на площади в 481 четверть («без четверти в поле, а в дву потомуж») расчеты сенных покосов составили 1340 копен, из них для вотчинника заготавливали больше половины — 815 копен. Село Махра с деревнями обрабатывало для монастыря 43 десятины земли («да при сельце Копнине 100 десятин») (НИОР РГБ. Ф. 303.I. № 679. Л. 39).
Помимо обработки земли и содержания лаврских рабочих, дополнительным крепостным обременением для монастырского села был ежегодный денежный и натуральный оклад — оброк (78 рублей 76 копеек, яиц 6306 штук). Монастырские ведомости упоминают о большом объеме лесных заготовок, также положенных окладу: «– бревен, столбов и подвязей 728, — лавок, досок и брусьев 320, — моху 16 возов, — лучины 3840 полен, — плот сошных и борон и клещен хомутовых 384, — дров 76 сажен трех аршин» (НИОР РГБ. Ф. 303. № 679. Л. 39 об.).
После изъятия монастырских земель крепостное крестьянство указанных вотчин также перешло в ведение государства. Но еще двадцатью годами ранее лаврские храмы Махры и Константиновского были включены в юрисдикцию выделенной из Московской епископии в 1742 г. Переславско-Дмитровской епархии. С 1744 по 1752 гг. ее возглавлял еп. Арсений (Могилянский; ^1770), являвшийся одновременно и архимандритом Троицкой лавры (и ректором семинарии) [Покровский, 1897, 371, 373]. В этот период руководство лаврскими вотчинами было сосредоточенно в одних его руках. С 1752 г. назначение штатных клириков вотчинных храмов принадлежало Переславскому епископу (в 1753 г. — еп. Серапион (Лятошевич), затем еп. Амвросий (Зертис-Каменский)), но с согласованием с Учрежденным собором Лавры. Челобитные от прихожан и клириков вотчинных приходов подавались в двух экземплярах: архиерею Переславля-Залесского и троицкому архимандриту (с собором). Так было, к примеру, в деле замещения вакации настоятеля Сретенской церкви и в деле назначения штатного дьячка прихода Архангела Михаила того же с. Константиновского (ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 2. Д. 174. Л. 1, 2; НИОР РГБ. Ф. 303. № 721. Л. 97–97 об.).
К концу ХVII в. Троице-Сергиев монастырь владел в указанных волостях двумя селами (три храма, из них один деревянный), 16 деревнями (5 — в Рождественском: Афанасово, Козина, Богородская Дмитровская, Ченцово; 11 — в Серебожье: Бобоши-но, Базыкино, Грачнево, Гусарня, Кисляково, Тарбинская, Посевьево, Козлово, При-кащиково, Чернецкая, Поповская), ок. 28 пустошами (14 — возле Махры, 14 — возле с. Константиновского).
В результате секуляризации крупнейший церковный феодал лишился большей части своих вековых вотчинных владений вместе с более чем 106 тысячами крепостных крестьян, включая земли и население Серебожского и Рождественского станов Переславского уезда: 2 800 человек (1210 человек обоего пола в приходе с. Махра; в Архангельском приходе — 505 душ обоего пола, в Сретенском приходе 1090 человек обоего пола, всего в Серебожье более 1600 человек обоего пола (ГАВО. Ф. 556. Оп. 107. Д. 9. Л. 1079–1079 об.) (всего в уезде лаврских: 21 969 четвертей земли и 11 580 крепостных душ) (ГАВО. Ф. 556. Оп. 107. Д. 9. Л. 262–262 об., 268, 1079).
Храмы сел Махра и Константиновское немногим ранее перешли в полную юрисдикцию Переславской епархии, крестьяне — в ведомство Коллегии экономии, отчего в актах ХVIII–ХIХ вв. они именуются экономическими, или казенными, крестьянами («крестьяне Казенного ведомства», «крестьяне Экономического ведомства», также «казенные» и экономические крестьяне»).
С 1 января 1764 г. экономические крестьяне, вместо прежних оброков и барщинной работы, должны были платить 80 копеек оброчной подати (с души) и 70 копеек подушной подати, всего по 1,5 рубля в год. Через Коллегию экономии подушный оклад поступал в государственную казну [Смолич, 1997, 388]. Бывшие крепостные приобрели относительную личную свободу, но были прикреплены к земле и несли определенные государственные повинности. Экономические, бывшие монастырские, крестьяне составили поначалу отдельную группу государственных крестьян (более 1,5 млн душ обоего пола), но к концу ХVIII в., в связи с упразднением Коллегии экономии, «во всем сравнялись с государственными, поступив в ведение казенных палат» (Кавелин, 1912, 10). Объем оброка для казенных крестьян неуклонно возрастал: с 1768 г. крестьяне платили 2 рубля, с 1783 г. — уже 3 рубля. Кроме денежных податей государственные крестьяне несли натуральные повинности: подводную, дорожную, обязанность водить барки по рекам (Кавелин, 1912, 12).
Получив личную свободу от феодала — Троице-Сергиева монастыря, бывшие крепостные крестьяне подпали под финансовый гнет государства. Вынужденные платить высокие подушные налоги и нести хозяйственные повинности (работы), они больше не имели столь сильного защитника (сколь и хозяина) в лице Лавры.
«Секуляризация явилась логическим следствием введения при Петре Великом государственной церковности, окончательно сложившейся в эпоху Екатерины. Ввиду усиления абсолютистской императорской власти при Екатерине всякая борьба Церкви против государственной церковности стала безнадежной» [Смолич, 1997, 380]. По замечанию профессора П. В. Знаменского, секуляризация и введение штатов оказало на монашество «сильное потрясение и на первых порах еще более расстроило его жизнь; никогда еще не было столько бегства монахов из обедневших монастырей и их бродяжничества, как несколько лет спустя после 1764 г.» [Знаменский, 1992, 444–445].
Изъятие земель Троицкого монастыря в Переславском уезде, в Рождественской и Серебожской волости, представляет яркую картину сложного и многолетнего процесса перехода церковного имущества в распоряжение государства, а подмонастырских приходов — в юрисдикцию Переславско-Дмитровской епархии. Статистические данные, как ранее опубликованные, так и введенные в научный оборот впервые, позволяют расширить исследования по церковно-государственным отношениям и в целом по истории Русской Церкви в XVIII в. и внести их результаты в курс преподавания исторических дисциплин в духовных и светских вузах.
Список литературы Специфика процесса секуляризации церковных земель на примере некоторых вотчин Троице-Сергиева монастыря в Переславском уезде
- ГАЯО — Государственный архив Ярославской области. Ф. 1200. Оп. 2. Д. 174.
- ГАВО — Государственный архив Владимирской области. Ф. 556. Оп. 107. Д. 9. Исповедные ведомости Переславского уезда.
- НИОР РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 303.I. № 527; Ф. 303. I. № 866. Всеподданнейший доклад арх. Лаврентия Екатерине II; Ф. 303.I. Грамоты, указы, купчие и пр. документы. №.679. Ведомость /за 1761 г./ имеющихся в разных уездах лаврских вотчинах и положенных с оных дохода.
- ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том XV. 1758 — 28 июня 1762 гг. СПб.,1830. № 11498; Т. XVI. № 12.060.
- Тверские акты — Тверские акты, изданные Тверскою ученою архивною комиссиею под редакциею Сергея Шумакова. Вып. II: Акты 1649-1761 гг. Тверь, 1897.
- Алексеев (1966) — АлексеевЮ. Г.Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV-XVI вв. Переяславский уезд / АН СССР. Ленингр. отделение Ин-та истории. М.; Л.: Наука [Ленингр. отделение], 1966.
- Амвросий Орнатский (1810) — Амвросий (Орнатский), архим. История российской иерархии // Собранная Новгородской семинарии ректором и Богословии учителем, Анто-ниева монастыря архимандритом Амвросием. М., 1810. Ч. 2.
- Веселовский (1947) — Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в северо-восточной Руси. Т. 1. Ч. 1: Частное землевладение. М.; Л.: Ин-т истории АН СССР, 1947.
- Горский (1879) — ГорскийА.В.Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы лавры, составленное по рукописным и печатным источникам профессором Московской духовной академии А.В. Горским в 1841 году, с приложениями архимандрита Леонида. 1879. Ч. 1.
- Голубинский (1902) — Голубинский Е.Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра. Жизнеописание Преподобного Сергия и путеводитель по Лавре. Сергиев Посад, 1902. Ч. II.
- Завьялов (1900) — ЗавьяловА.А.Вопрос о церковных имениях при императрице Екатерине II: Исслед. Алексея Завьялова. СПб., 1900. Табель, сочиненная из имеющихся в Св. Синоде ведомостей.
- Зимин (1982) — Зимин А.А. Россия на рубеже XV-XVI столетий (Очерки социально-политической истории). М., 1982.
- Знаменский (1992) — ЗнаменскийП.В.История Русской Церкви. // Материалы по истории церкви. Кн. 10: История Русской церкви: (учебное руководство). М., 1992.
- Карташев (1999) — КарташевАВ. Очерки по истории Русской Церкви. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2.
- Кавелин (1912) — Кавелин С. П. Исторический очерк поземельного устройства государственных крестьян. М., 1912.
- Орлов (1832) — ОрловА. А.Моя жизнь, или Исповедь: Московские происшествия Александра Орлова. М., 1832. Ч. 1.
- Покровский (1897) — Покровский И.М. Русские епархии в XVI-XIX вв., их открытие, состав и пределы. Казань, 1897. Вып. 2.
- Смолич (1997) — СмоличИ.К.Русское монашество, 988-1917: [Возникновение, развитие и сущность]; Жизнь и учение старцев: [Путь к совершенной жизни]. (Прил. к «Истории Русской Церкви»). М., 1997.
- Рожков (1899) — Рожков Н. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке // Ученые записки императорского Московского университета. Отдел историко-филологический. Вып. 26: Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке. М., 1899.
- Черепнин (1978) — ЧерепнинЛ.В.Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. М., 1978.
- Черкасова (2004) — ЧеркасоваМ.С.Крупная феодальная вотчина в России конца XVI-XVII веков (по архиву Троице-Сергиевой лавры). М., 2004.
- Черкасова (1996) — Черкасова М. С. Землевладение Троице-Сергиева монастыря в XVI-XVII вв. М., 1996.
- Шмурло (1922) — Шмурло Е. Ф. История России 862-1917. Мюнхен, 1922.