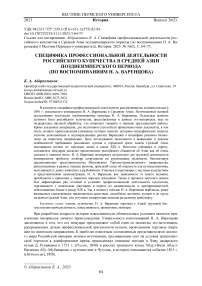Специфика профессиональной деятельности российского купечества в Средней Азии позднеимперского периода (по воспоминаниям Н. А. Варенцова)
Автор: Абдрахманов К.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Российская империя: грани региональных историй
Статья в выпуске: 3 (62), 2023 года.
Бесплатный доступ
В контексте специфики профессиональной деятельности рассматривается деловая поездка в 1891 г. московского коммерсанта Н. А. Варенцова в Среднюю Азию. Источниковой основой исследования послужили опубликованные мемуары Н. А. Варенцова. Отдельные аспекты делового быта российского купечества, представленные в данных эго-материалах, еще не подвергались научной обработке, что позволяет говорить о новизне предложенной работы. Кроме указанных материалов, для подготовки статьи были привлечены иные документы, в том числе личного происхождения (дневники, путевые заметки, историко-географические очерки), логично дополняющие и подтверждающие рассказ Варенцова о специфике решения бизнес-задач на азиатском направлении. Цель исследования заключается в выявлении и анализе особенностей пребывания российских купцов в городской среде ханств Средней Азии, посещавших регион по торговым делам в конце XIX в. Неохотно собираясь в дорогу, составитель мемуаров разделял представление российского обывателя об Азии как об очень далеком и опасном месте. Н. А. Варенцов подчеркнул актуальную для трудовой деятельности коммерсантов проблему подбора сотрудников на руководящие должности. Инспектируя среднеазиатские представительства Московского Торгово-промышленного товарищества, расположенные в разных городах региона, приезжий узнал об опасности для путешественника, исходившей от диких животных и разбойников. Участвуя в переговорах с местным купечеством и представителями администрации, Н. А. Варенцов, вне зависимости от своего желания, приобщился к принятым у тюркских народов традициям. Также в процессе научного поиска был зафиксирован ряд отличий в условиях профессиональной деятельности купечества, торговавшего с азиатскими ханствами в период их независимости, и предпринимателей, действовавших ближе к концу XIX в. Так, к моменту поездки Н. А. Варенцова верблюды, ранее являвшиеся единственным транспортным средством, способным доставить купцов и их грузы на рынки Средней Азии, уже уступили лидирующие позиции рельсовому транспорту.
Хлопок, купечество, н. а. варенцов, торговля с азией, трудовой быт, текстильная промышленность, повседневность, приказчики, мемуары
Короткий адрес: https://sciup.org/147246494
IDR: 147246494 | УДК: 94:[331"375":339.1-051(=161.1)(575):82-94 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-3-64-73
Текст научной статьи Специфика профессиональной деятельности российского купечества в Средней Азии позднеимперского периода (по воспоминаниям Н. А. Варенцова)
Поскольку деловые контакты российских предпринимателей с азиатским торговым миром происходили в условиях фронтирных зон (Урал, Сибирь, Казахская степь, Средняя Азия) [ Побережников , 2013, с. 250], очевидным является выбор концепции фронтирной модернизации в качестве одного из инструментов исследования. Следование данному подходу позволяет более эффективно оценить влияние пространства межэтнического и межкультурного взаимодействия на условия и результаты внешнеторговой коммерческой деятельности российского купечества в конце XIX ‒ начале ХХ в. В коллективной монографии екатеринбургских ученых говорится о том, что модернизация приносит с собой «...новые модели социализации и поведения; социоструктурные сдвиги, включающие “высокую дифференциацию и специализацию применительно к деятельности индивида...”» [Профессиональные группы и общества…, 2016, с. 8]. Для коммерсантов, постоянно рисковавших жизнью в караванной торговле в XVIII ‒ первой половине XIX в., остерегавшихся обмана со стороны азиатских коллег и враждебных действий правительства стран визита, были присущи уникальные модели социализации и поведения внутри своей предпринимательской ниши. Эпоха Великих реформ, промышленного переворота и территориальных приобретений Российской империи на азиатском направлении несколько снизила, но не отменила полностью потребность купцов из этой сферы коммерции в каких-либо специфических навыках, необходимых для успешной реализации деловых операций в среднеазиатских ханствах. В. А. Цвык отметил, что рабочая специализация индивида предполагает «...формирование профессиональных знаний, умений, навыков, усвоение социально-профессиональных норм, становление личности как субъекта профессиональной деятельности...» [ Цвык , 2003, с. 259]. Исходя из этого, для определения степени и результатов воздействия корпоративного пространства на менталитет коммерсантов, проводивших торговые операции с государствами Азии, в данной работе выполнен поиск особых отличительных черт деловой среды внешнеторгового сектора.
Несмотря на то что истории российского купечества посвящено значительное количество работ современных исследователей, трудовой быт остается одним из самых малоизученных аспектов профессиональной деятельности делового сообщества. Анализ трудовой повседневности оренбургского купечества XVIII ‒ начала ХХ в. проделан в работах Е. В. Бурлуцкой (Банниковой) [ Банникова , 2011, 2014; Бурлуцкая , Абдрахманов , 2020] и К. А. Абдрахманова [ Абдрахманов , 2021; Бурлуцкая , Абдрахманов , 2020].
Николай Александрович Варенцов (1862‒1947) ‒ крупный российский предприниматель конца XIX ‒ начала ХХ в. За годы коммерческой деятельности московский купец занимал руководящие должности на предприятиях, специализировавшихся на купле-продаже среднеазиатского хлопка ( Варенцов , 2011, с. 5, 7‒8). В статусе директора «...по комиссионной торговле хлопком, шерстью и каракулем» Московского Торгово-промышленного товарищества Н. А. Варенцов совершил путешествие в Среднюю Азию, позволившее ему составить уникальное свидетельство о специфике деловых операций на азиатском направлении в конце XIX в. (Там же, с. 8).
Рассматривая изменения в организации бизнеса крупных предпринимателей начала ХХ в., один из основателей исторической школы «Анналов» Л. Февр обращал внимание на то, что в современных условиях главный владелец капитала избавился от необходимости совершать утомительные путешествия к местам концентрации производств и в пункты деловых контактов с партнерами, которые могли располагаться на значительном удалении от его места жительства. С этого времени контроль за процессом производства, решение вопросов купли-продажи и определение оптимальных сфер инвестирования коммерсант осуществлял из дома или головного представительства, имея бесперебойную оперативную связь с исполнителями на местах. «Крупный торговец, негоциант большого размаха, с международными связями, проводящий операции самого разнообразного свойства, тоже не путешествует. Лишь его распоряжения бегут по всему свету», ‒ писал французский историк [ Февр , 1991, с. 217]. Однако воспоминания Н. А. Варенцова наглядно демонстрируют то, что в повседневные трудовые будни российских капиталистов буржуазного типа, причастных к внешнеторговой деятельности, порой вмешивались обстоятельства, заставлявшие коммерсантов отправляться в долгое и рискованное путешествие.
Специфика организации деловых операций в среднеазиатских ханствах делала неизбежными для купцов поездки в этот регион, даже несмотря на их социальный статус и финансовые показатели. Отправившись в 1891 г. в Среднюю Азию для закупки большой партии хлопка, Н. А. Варенцов должен был также решить вопрос с качеством работы управленческого персонала. Дефицит грамотных, расторопных, а главное, ответственных и честных кадров на должности приказчиков являлся серьезной проблемой в профессиональной деятельности купцов пореформенных лет. Как отмечает сам автор, в начале 90-х гг. XIX в. среднеазиатские «...отделения товарищества остались без надлежащего надзора, и каждый доверенный отделения делал, что ему хотелось, а главное, не забывал набивать свои карманы деньгами Товарищества» ( Варенцов , 2011, с. 266).
О масштабе кадрового голода в сфере внешней торговли и случаях присвоения приказчиками хозяйского имущества, нередко случавшимися в начале второй половины XIX столетия, свидетельствуют работы П. И. Небольсина и М. Л. Юдина ( Небольсин , 1856, с. 19; Юдин , 1902, с. 11). В статье Г. Г. Корноуховой сказано, что служащие тегеранского представительства фирмы Н. Н. Коншина предпочитали тратить время на разные удовольствия, «...чем заниматься делом, которое им было доверено» [ Корноухова , 2021, с. 794]. Из мемуаров Н. А. Варенцова можно понять, что и в конце XIX в. наемные управленцы охотно применяли незаконные способы обогащения, присваивая средства своих нанимателей. Нечистые на руку приказчики пользовались удаленностью вверенных им филиалов от головного представительства компании, понимая, что большие расстояния не позволят купцам осуществлять более строгий контроль за работой доверенных лиц.
Приступив к решению кадрового вопроса, московский промышленник лично смог убедиться в серьезности проблем с дисциплиной среди управленческого персонала. В Намангане представительство Московского Торгово-промышленного товарищества возглавлял С. Ф. Погребов, о котором Н. А. Варенцов был весьма невысокого мнения. Несмотря на отсутствие явных улик, подтверждающих участие доверенного в каких-либо махинациях, наносивших финансовый и репутационный ущерб фирме, Варенцов был уверен, что в голове у него «...одна только мысль ‒ личной материальной выгоды» ( Варенцов , 2011, с. 292). Яркий пример халатного исполнения доверенными своих должностных обязанностей ждал Николая Александровича в кишлаке Пекент. Уже на въезде в представительство отрылась следующая безрадостная картина: «...на дворе царил хаос с разбросанным хлопком, с открытыми воротами сараев, где хранился хлопок; входим в контору, в ней из людей никого нет. На столах разбросанные бумаги, конторские книги вперемешку с образцами хлопка, стаканами недопитого чая, с валяющимися окурками папирос» (Там же, с. 294‒295). Проводить беседу с безответственным представителем компании проверяющий не стал, так как «...говорить с ним не приходится: от пьянства, безделья совершенно отупел, ничего не соображает и ничего не понимает» (Там же, с. 295).
Разрешить сложившийся в управленческих кадрах кризис могло сосредоточение всех руководящих функций в руках одного надежного и опытного человека, искренне преданного взятым на себя обязательствам. Являясь директором структуры Московского Торговопромышленного товарищества, отвечавшей за деловые операции, связанные с покупкой и продажей хлопка, Н. А. Варенцов располагал такими полномочиями. «Главным доверенным для всей Азии» было решено сделать руководителя кокандского отделения Ф. П. Погребова, сын которого занимал аналогичную должность в Намангане. Надо сказать, что у московского коммерсанта были весьма высокие требования к потенциальному руководителю всех среднеазиатских представительств. Перебирая в уме фигуры всех управленцев, с кем Варенцову довелось встретиться за время поездки, он пришел к выводу, что «...ни одного нет удовлетворяющего моим желаниям, но лучший из всех был доверенный кокандского отделения Федор Петрович Погребов...» (Там же, с. 294). Однако инициатива по модернизации управленческой иерархии среднеазиатских филиалов компании не была реализована в силу того, что Ф. П. Погребов неожиданно сменил место работы, перейдя на службу в Товарищество В. Алексеева (Там же). Мысли Н. А. Варенцова по поводу сложившейся ситуации в очередной раз подтверждают глобальность проблемы с нехваткой управленческих кадров для крупного купечества конца
XIX в., занятого внешней торговлей. «Это сообщение повергло меня в крайнее уныние: единственное лицо, более или менее сносное, на которое я мог бы положиться, и того сманили!», ‒ переживал о своей неудаче автор (Там же).
Важной составляющей трудовой повседневности купцов-текстильщиков, регулярно закупавших в Хиве, Бухаре и Коканде крупные партии хлопка, была забота о бесперебойных поставках этого ценного сырья. Срывы сроков поставки хлопка происходили не только по вине безответственных служащих, но и в силу отсутствия хороших дорог, функционировавших в любое время года. Чем интенсивней купечество вкладывало средства в текстильное производство, тем актуальней для коммерсантов становились вопросы организации быстрого круглогодичного транспортного сообщения между Россией и Средней Азией. В конце 80-х гг. XIX в. правительство империи приняло решение о строительстве железной дороги, призванной облегчить товарно-транспортную коммуникацию между промышленными центрами России и главными торговыми городами среднеазиатских ханств. Руководителем проекта был назначен генерал М. Н. Анненков ( Варенцов , 2011, с. 80).
Во время встречи с Н. А. Варенцовым военный строитель спросил мнение купца как человека, ведущего дела на азиатском направлении, об оптимальном маршруте возведения рельсового полотна. Н. А. Варенцов писал, что генерал «…интересуется первоначальным пунктом направления стройки: дорогу можно было вести из Оренбурга до Ташкента или же от Красно-водска, порта Каспийского моря, до Бухары, и какое из этих направлений было бы более приемлемо для торговли» (Там же). Прекрасно разбиравшийся в вопросах эффективного использования денежных средств и умевший адекватно оценивать трудозатраты на то или иное начинание Н. А. Варенцов определил оренбургское направление как самое экономичное в плане капиталовложений и легковозводимое в силу особенностей рельефа местности. Купец заверил главного строителя в том, что «…постройка через Оренбург, конечно, будет удобнее…», так как данный вариант не предусматривал ни «…больших земельных работ, ни длинных мостов» (Там же). Но генерал М. Н. Анненков усомнился в целесообразности рекомендованного Варенцовым маршрута, так как от Оренбурга в Среднюю Азию уже проходил конный тракт, а потому предпочел прокладывать рельсы от каспийского порта Узун-Ада.
Решение о строительстве более удобной железной дороги между Ташкентом и Оренбургом было принято несколько позже. Железнодорожный путь, связавший два крупных торговых центра империи, был сдан в эксплуатацию в 1905 г. и сразу вывел торговые связи России и Азии на новый уровень. Наличие рельсовой дороги стимулировало процесс отвода большого количества земель Средней Азии под высадку хлопка. В источнике говорится, что «...все большие площади земель Средней Азии под влиянием промышленных капиталов Лодзинского и Московского районов обращаются под более выгодную, чем хлебная, культуру хлопка» (Оренбург - железнодорожный узел, 1912, с. 1). Значимость нового маршрута отметил В. Н. Гарте-вельд: «Первый путь из Москвы ‒ это через Самару-Оренбург-Ташкент. Я говорю “первый” потому, что, несмотря на шестисуточное пребывание в вагоне, он самый популярный» ( Гартевельд , 1914, с. 9). Предложенный материал диктует вывод о том, что Н. А. Варенцов был выдающимся представителем делового мира, наделенным особым набором знаний, ментальных установок, позволивших ему точно определить, какой из рассматриваемых вариантов железной дороги окажется более удобным, условно недорогим и способным окупиться в кратчайший срок.
В продолжение темы железных дорог стоит сказать, что расстояние от порта Узун-Ада до Самарканда Н. А. Варенцов и его спутники проделали в поезде (Варенцов, 2011, с. 268). Этот факт говорит об изменении в конце XIX в. условий ведения дел российским купечеством в азиатских странах по сравнению с большей частью столетия. Если до ввода в строй Закаспийской железной дороги единственным средством транспортировки, способным преодолеть тяжелый и длительный путь по степям и пустыням, был караван верблюдов, то после запуска рельсовой магистрали путешественники добирались до места назначения в гораздо более удобных вагонах поездов. К тому же до конца 80-х гг. XIX в. такая деловая поездка осложнялась тем, что прямого пути из европейской части России в азиатские ханства не существовало. Жителям Санкт-Петербурга или Москвы необходимо было добраться до Оренбурга, чтобы оттуда про- должить путь в караване. По словам одного из известных московских предпринимателей Кре-стовникова, который в середине 50-х гг. XIX в. отправился в Оренбург для приобретения хлопка, такого рода путешествие представлялось жителям центра страны «...в то время каким-то подвигом...» (Кафенгауз, 1928, с. 111). Полученная благодаря развитию транспортной сети возможность передвижения по железной дороге существенно экономила купцам время, здоровье и деньги, избавляла их от необходимости запасаться большим количеством воды и продуктов длительного хранения, а также сводила на нет риск нападения грабителей.
Несмотря на то что к концу XIX в. передвижение между Россией и ее среднеазиатскими протекторатами стало более быстрым и комфортным, все же существовал риск задержки в пути из-за незнания точного расписания движения поездов. Так, прибыв в порт Узун-Ада с опозданием, Варенцову пришлось еще трое суток ждать поезд на Самарканд ( Варенцов , 2011, с. 268). От предпринимателей, решившихся на дальнюю поездку и оказавшихся в подобных обстоятельствах, требовались физическая выносливость, позволяющая отдыхать при отсутствии каких-либо сносных условий или обходиться без сытной еды в течение некоторого времени, умение подавлять чувство брезгливости при употреблении незнакомой или несвежей пищи, а также морально-психологическая устойчивость, не дающая бросить начатое дело. В ожидании поезда купцу и его спутникам пришлось спать «...на полу станции, постелив шубы с мехом из длинных волосатых овчин» (Там же).
В буфете подали блюдо «...в довольно грязном мельхиоровом сотейнике...», от которого Варенцов отказался, так как «...запах от испорченного мяса покрывал все запахи острых специй соуса» (Там же). Судя по всему, предприниматель не стал травмировать психику и пищеварительный тракт, только потому что в этом не было необходимости. К примеру, находясь в Бухаре на приеме у местного коммерсанта, Варенцов стал свидетелем традиционной трапезы, во время которой участники застолья брали пищу руками, затем «...с удовольствием облизывали свои пальцы для взятия новой порции из общего блюда» (Там же, с. 278). Данное зрелище не понравилось жителю России, но он не только не покинул стол, но, по примеру соседей, приспособился есть руками из общей посуды. Ориентируясь на эти сведения, можно утверждать, что Н. А. Варенцов был деловым человеком в полном смысле этого слова, и если бы несвежие продукты ему предложил кто-нибудь из азиатских деловых партнеров, то коммерсант, скорее всего, сделал бы над собой усилие и съел их, дабы никого не обидеть.
Инспектируя бывшую хлопковую плантацию возле г. Чарджуй (современный Туркменабад в Туркмении), Н. А. Варенцов зафиксировал наличие угрозы для здоровья и жизни человека, исходившей от обитателей животного мира Средней Азии. Командир приставленного к купцу вооруженного эскорта уведомил последнего о том, что «...место, куда вы едете, глухое, где водятся тигры, кабаны...» (Там же, с. 270‒271). Оставленные Варенцовым сведения говорят о том, что всякая поездка за пределы густонаселенного города могла стать последней для беспечного жителя коренной империи. Серьезность данной опасности подтверждают воспоминания людей, лично столкнувшихся с представителями местной фауны. В. Н. Гартевельд в начале ХХ в. писал о том, что вокруг Красноводска «...бродит по ночам масса шакалов...» ( Гартевельд , 1914, с. 21‒22).
Российский военный и исследователь Центральной Азии Б. Л. Громбчевский подробно описал охоту на тигра, проникшего во двор жителя г. Чиназ (Громбчевский, 2019, с. 225). Опасный хищник был заблокирован в сарае и впоследствии застрелен вооруженными казаками. О закономерности контактов хищного зверя с человеком Громбчевский сказал, что «...тигр не боится людей, живет в их ближайшем окружении…» (Там же). Когда авторы исследуемой эпохи пишут об опасных для человека животных, обитавших на территории азиатских ханств в XIX в., то, как правило, речь идет о тиграх, кабанах, волках и шакалах, но Б. Л. Громбчевскому довелось стать свидетелем нападения на солдат речного обитателя (Там же, с. 227). Встав лагерем возле Ходжента, личный состав доверенной Громбчевскому стрелковой роты отправился купаться в местной реке. Представленный отрывок из воспоминаний Громбчевского демонстрирует пугающую картину произошедших событий: «Однажды фельдфебель доложил мне, что одного из купающихся солдат схватил огромный сом (silurius) и затянул под воду, под мост. Товарищи видели, как из воды показалась голова огромной рыбы, схватившей за стопу плывущего солдата, и потянула его ко дну так стремительно, что тот успел только издать душераздирающий крик и исчез под водой» (Там же). Перед этой трагедией Б. Л. Громбчевский уже слышал разговоры местных жителей «...об огромных сомах под мостом, которые несколько раз похищали купающихся детей...», но посчитал, «...что это чистейшая выдумка» (Там же).
Куда большую опасность, чем крупные хищники, для человека, обладавшего европейской внешностью и имеющего при себе что-либо ценное, представляли бандитские шайки. Поэтому Н. А. Варенцов, проверяя места хранения и скупки хлопка за пределами Коканда, тратил больше времени, но всегда пользовался основным оживленным трактом, «...так как по окружным проселочным дорогам опасно было ездить из-за басмачей (барантачи), грабивших и убивавших русских» ( Варенцов , 2011, с. 286‒287).
Всерьез испугался за свою жизнь московский промышленник во время конфликта с местным предпринимателем из сартов. При посещении кишлака Пекент, где располагался большой пункт скупки хлопка у местных производителей, Н. А. Варенцов предъявил претензии начальнику представительства по поводу качества продукции. «Пошли осматривать хлопок в сараях, оказавшийся плохого качества, перемешанный со вторым и третьим сортом. Я ему [Управляющему. ‒ К. А. ] делаю замечание, он утверждает, что я ошибаюсь, хлопок исключительно первого сорта», ‒ обрисовал суть инцидента российский купец (Там же, с. 295). По зову доверенного в отделение явился некий сарт, которого первый определил так: «Это главный наш поставщик хлопка, дехкан такой-то, он может подтвердить, что этот хлопок весь первого сорта» (Там же). Для более четкого понимания, какие чувства испытывал Н. А. Варенцов, препираясь с обвиненным в нечестности поставщике, имеет смысл привести описание внешности оппонента, которая так напугала купца. «Явившийся сарт хотя небольшого роста, но с толстой, бычачьей шеей имел косую сажень в плечах, с кулаками, как два арбуза, в одной руке держал нагайку, которой можно свободно убить человека. Вся его фигура показывала сильного и злобного человека. Глаза его горели гневом и злобой, он что-то кричал по-сартовски, размахивая нагайкой, брызгая слюной», ‒ рассказывал о пережитом ужасе автор (Там же). В этот момент рядом с Варенцовым находился только его компаньон по поездке В. А. Капустин, поэтому предприниматель почти поверил в трагический исход делового конфликта. «...Бешеный сарт и пьяный доверенный могут сделать с нами все, что им угодно: прибить и даже убить! Бог их знает!», ‒ переживал Н. А. Варенцов (Там же).
Однако стоит предположить, что опасения автора мемуаров были напрасными, и до убийства дело вряд ли бы дошло. Сам Варенцов записал, что «расходившийся сарт понемногу начал успокаиваться, и мы его наконец выпроводили» (Там же). Столь сильный эмоциональный окрас текста проявился в силу того, что предприниматель находился в незнакомой ему среде, еще недавно полностью независимого иностранного государства, жители которого являлись носителями иных культурных и морально-нравственных ценностей. Эту вынужденную поездку Варенцов с самого начала воспринимал с изрядной долей скепсиса. «Я понимал всю серьезность и сложность порученного мне дела и должен сказать, что поездка меня сильно угнетала, я в день отъезда чувствовал себя до чрезвычайности скверно», ‒ писал о своем отношении к путешествию московский купец (Там же, с. 266).
С приходом в города ханств российской гражданской и военной администрации и постепенным распространением в регионе имперского законодательства отношение к российским подданным со стороны автохтонного населения резко изменилось. На смену пренебрежению и недоверию пришло чувство страха перед людьми, представлявшими могущественное государство, обладавшее возможностями свергать здешних правителей. Е. Л. Марков, путешествовавший по Средней Азии в начале 90-х гг. XIX в., узнал от русской жительницы Самарканда об отношении местного населения к переселенцам из России. Женщина убеждала писателя в том, что «нас ни сарты, ни киргизы никогда не обижают, ни Боже мой!», потому что «боятся русских!» (Марков, 1901, с. 429). Русскоязычное христианское общество городов Средней Азии было надежно ограждено от каких-либо притеснений со стороны коренных обитателей благодаря эффективной работе созданных по имперскому образцу судебных инстанций и полицей- ского аппарата. Собеседница Е. Л. Маркова описывала привилегированное положение русских людей: «Теперь если на киргиза или на сарта жалобу в суд или по начальству подашь, так он от страха не знает, куда ему деться, в ногах валяется, просит: не подавай на него жалобы...» (Там же). Г. К. Гинс описал случаи дискриминации коренного населения российскими колонистами в начале ХХ в.: «Русские крестьяне возьмут в аренду киргизские земли, построят дома и отказываются уходить по окончании срока аренды. Приезжают киргизы. Начинается свалка, и дело кончается кровопролитием, при чем либо вовсе не имеющие ружей, либо вооруженные старинными самопалами киргизы оказываются в таких случаях более слабою стороною» (Гинс, 1913, с. 331).
Приезжие из России, а тем более те из них, кто обладал высоким социальным статусом, могли рассчитывать на покровительство местного руководства, представленного азиатской знатью или назначенного из метрополии. Командир конного отряда, сопровождавшего Варенцова во время поездки по окрестностям Чарджуя, объяснил подобную заботу о безопасности приезжего тем, что «...если с вами что-нибудь случится, то бек будет огорчен на всю жизнь» ( Варенцов , 2011, с. 271). Что касается поведения сарта, то активная жестикуляция и повышенный тон должны были помочь азиатскому коммерсанту отстоять свою точку зрения по поводу качества поставленного товара. Для русских купцов второй половины XIX ‒ начала ХХ в. также было свойственно агрессивное поведение во время продвижения своих интересов. Яркую картину поведения российских предпринимателей в рамках деловой повседневности дает характеристика орловского коммерсанта Д. С. Русанова, опубликованная в работе М. И. Лавицкой: «С купцами, в практическом обиходе, он был купцом: выл с ними по-волчьи на ярмарках, в трепальном заведении, в лавке, в точности изучив все достойные краснокожего хитрости и уловки тогдашней патриархальной, наполовину плутовской русской торговли» [ Лавицкая , 2009, с. 34–35].
Важным элементом делового успеха предпринимателя являлась его поддержка администрацией пункта пребывания или государственными чиновниками. Чтобы получить шанс обрести покровительство высоких должностных лиц и не испортить с ними отношения, российские подданные должны были соблюдать определенный этикет, основанный на традициях. Н. А. Варенцову пришлось продемонстрировать уважительное отношение к местным обычаям, о чем сам автор поведал в весьма ироничной форме. Русский купец находился в Бухаре, когда произошла его встреча с министрами эмира, передавшими приветствие от своего господина ( Варенцов , 2011, с. 279). В процессе общения состоявший в свите чиновников человек «...поспешил развязать узел и достал оттуда парчовый халат, передал с поклоном министру, тот собственноручно надел халат на меня», ‒ рассказывал о подарке эмира Н. А. Варенцов (Там же, с. 280). Сочтя свой внешний вид довольно нелепым, Варенцов хотел снять халат после ухода дарителей, но сопровождавший купца глава бухарского представительства товарищества Х. С. Бурнашев «запротестовал: “Нельзя снимать, эмир может обидеться, подумает, что вы недовольны подарком...”» (Там же). В результате купцу «...так и пришлось идти всю дорогу до квартиры в розовом халате, сопровождаемым толпой зевак и многими бухарцами...» (Там же). Столь интересный факт говорит о компромиссном характере и дальновидности Варенцова, поставившего начало хороших отношений с облеченными властью людьми выше собственного психического комфорта.
В мемуарах нашлось место сведениям о «неофициальной» составляющей повседневного труда коммерсантов, торговавших с Азией до покорения региона Российской империей. В первой половине 60-х гг. XIX в. российские коммерсанты как люди, регулярно посещавшие многие города Хивы, Бухары и Коканда, занимались сбором сведений для имперских властей. Региональную и государственную администрацию интересовали прежде всего данные экономического, политического и военного характера. В монографии В. Н. Шкунова об услугах, оказываемых государству татарскими предпринимателями, говорится: «...по возвращении на родину татарские купцы информировали губернские власти о положении дел в ханствах, о наиболее важных событиях, а также о торговле, ценах, внешнеторговых связях Бухары, Хивы, Кокан-да...» [Шкунов, 2011, с. 122‒123]. Разведывательная служба бухарских купцов в пользу российской короны освещена в статьях современных исследователей [Крих, 2019; Пузырев, 2021]. В начале XIX в. роль агента военного губернатора Оренбургского края Г. С. Волконского вы- полнял челябинский купец первой гильдии Иван Ахматов (ОГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 266. Л. 1‒25). Оренбургский генерал-губернатор В. А. Перовский в 1851 г. отправил в Коканд приказчика С. Я. Ключарева «...для собирания сведений, снабдив соответствующей инструкцией» [Рожкова, 1963, с. 215‒216]. Московский купец Хлудов в 60-е гг. XIX в. доставил оренбургскому и самарскому генерал-губернатору А. П. Безаку важные «...сведения о численности бухарского войска» (ОГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 13901/1. Л. 25).
Во время череды деловых визитов и неформальных встреч Н. А. Варенцов познакомился с коммерсантом Д. Л. Филатовым ‒ владельцем виноградников под Самаркандом и производителем лучшего вина в Средней Азии ( Варенцов , 2011, с. 301). На одном из вечеров, проводимых в доме ташкентского купца Д. Н. Захо, Филатов рассказал о том, что «...желая услужить генералу Скобелеву...», он смог проникнуть в Бухару, чтобы «...собрать там все нужные генералу сведения...» (Там же, с. 305). Дмитрий Львович знал некоторые тюркские языки, а также имел полное представление о местных обычаях и порядках. Планы по сбору информации сорвала встреча Филатова с одним «татарином из Оренбурга», который неприязненно относился к русским, а следовательно, мог выдать бухарцам российского подданного. Дабы не быть уличенным в шпионаже и схваченным стражей эмира, Филатов спешно ретировался из города (Там же).
Проведенное исследование позволяет сказать о том, что в мемуарах Н. А. Варенцова проиллюстрированы многие моменты, характеризующие специфику профессиональной деятельности российского купечества XIX в., занятого во внешнеторговых операциях. Сюжет объемом около 50 страниц, посвященный поездке купца в Среднюю Азию, вмещает в себя подробный рассказ о трудностях, с которыми сталкивались предприниматели, находившиеся в отдаленном от коренной империи малоизученном пространстве исламских государств. Особенностью данного эго-материала является наличие палитры эмоций, выражаемых автором в процессе решения трудовых задач. Мемуары показали рефлексию предпринимателя в отношении рабочей обстановки, собственных действий и результатов проделанной работы. В тексте отчетливо читаются отличия условий ведения бизнеса современных Варенцову предпринимателей от положения купцов, ведущих торговлю в первой половине ‒ 60-х гг. XIX в.
Список литературы Специфика профессиональной деятельности российского купечества в Средней Азии позднеимперского периода (по воспоминаниям Н. А. Варенцова)
- Абдрахманов К.А. Нападения среднеазиатских кочевников на российские торговые караваны в начале XIX в. // Уральский исторический вестник. 2021. № 2 (71). С. 146-153. DOI: 10.30759/1728-9718-2021-2(71)-146-153
- Банникова Е.В. Деловая повседневность уральского дореформенного купечества // Изв. Самар. науч. центра Рос. акад. наук. 2011. Т. 13, № 3. С. 41-46.
- Банникова Е.В. Повседневная жизнь провинциального купечества (по материалам губерний Урала дореформенного периода). СПб.: Полторак, 2014. 439 с.
- Бурлуцкая Е.В., Абдрахманов К.А. Специфика трудовой повседневности купцов, ведущих торговлю с Азией в XIX в. // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. История России. 2020. Т. 19, № 3. С. 544-562. DOI: 10.22363/ 2312-8674-2020-19-3-544-562
- Корноухова Г.Г. Торговая деятельность Н.Н. Коншина в Персии во второй половине 1880-х гг. // Вестник архивиста. 2021. № 3. С. 791-802. DOI: 10.28995/2073-0101-2021-3-791-802
- Крих А.А. Разведывательная деятельность сибирских бухарцев в киргизской степи в XVIII в. // Вестник Омск. ун-та. Исторические науки. 2019. № 2 (22). С. 35-42.
- Лавицкая М.И. Повседневная жизнь купечества Орловской губернии во второй половине XIX -начале XX века // Вестник Челяб. гос. ун-та. 2009. № 4 (142). С. 30-39.
- Побережников И.В. Фронтирная модернизация как российский цивилизационный феномен // Россия реформирующаяся. 2013. № 12. С. 246-274.
- Профессиональные группы и общества как акторы российской позднеимперской модернизации (на материалах Урала второй половины XIX - начала XX в.) / Ин-т истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2016. 148 с.
- Пузырев И.Д. Разведывательная деятельность сибирских бухарцев на юго-восточном пограничье России в XVn-XVin вв. // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. История России. 2021. Т. 20, № 3. С. 388-398. DOI: 10.22363/2312-8674-2021-20-3-388-398
- РожковаМ.К. Экономические связи России со Средней Азией. М.: Академия наук СССР, 1963. 238 с.
- Февр Л. Бои за историю / пер. А.А. Бобовича [и др.]. М.: Наука, 1991. 629 с.
- Цвык В.А. Профессионализация как социальный процесс // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. Социология. 2003. № 4-5. С. 258-269.
- Шкунов В.Н. Среднее Поволжье в системе внешней торговли Российской империи в XVIII-XIX веках. Ульяновск: Изд-во Ульян. гос. ун-та, 2011. 200 с.