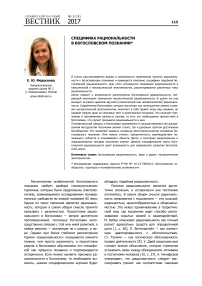Специфика рациональности в богословском познании
Автор: Федосеева Елена Юрьевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Экономика и менеджмент
Статья в выпуске: 2 (28), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о возможности применения понятия рациональности к богословскому познанию и приводится описание специфики подобной богословской рациональности. Для этого исследуется понимание рациональности в классической и неклассической эпистемологии, рассматриваются различные типы рациональности. Автор говорит о возможности рассмотрения богословской рациональности, следующей некоторым принципам неклассической рациональности. В целом же она выходит за рамки идеалов научной (классической или неклассической) рациональности. Современное богословие, которое выступает как полноценное знание в рамках неклассической эпистемологии, включает в себя примат веры над знанием, но придает разуму одно из ключевых мест в религиозном познании. Это означает признание и несомненную важность разума, то есть его необходимое присутствие в богословии, что служит признаком рациональности в нем. Познавательный процесс в богословии проявляется в сосуществовании как дискурсивной методологии получения знания о Боге, так и духовных практик достижения богообщения. Это позволяет выявить основные эпистемологические основания богословского познания. Ими можно считать приоритетность взаимодействия познающего субъекта и познаваемого объекта (Бога) и сочетание рациональных и нерациональных методов получения знания. Данные специфические черты богословской рациональности дают возможность для нормального развития богословской науки.
Богословская рациональность, вера и разум, неклассическая эпистемология
Короткий адрес: https://sciup.org/14114415
IDR: 14114415
Текст научной статьи Специфика рациональности в богословском познании
* Исследование поддержано грантом РГНФ № 16-13-73004/16 «Богословское сообщество: структура и познавательные особенности».
Рассмотрение особенностей богословского познания требует разбора гносеологических терминов, которые были предложены эпистемологами, занимавшимися исследованием познавательных сообществ во второй половине XX века. Одним из таких терминов является рациональность, которую в самом общем смысле принято связывать с разумностью. Присутствие рациональности в богословии — вопрос достаточно противоречивый, поскольку богословие непосредственно связано с той или иной религией, а любая религия — апелляция не к разуму, а вере. Однако при более глубоком рассмотрении термин «рациональность» оказывается намного полнее, чем просто разумность, а присутствие разума в богословии обусловлено его спецификой как процесса познания и подтверждается исторически. Если можно выявить признаки рациональности в богословии, то необходимо выяснить, какими специфическими чертами будет обладать подобная рациональность.
Понятие рациональности является достаточно сложным, и исторически оно постоянно уточнялось. В самом общем смысле рациональность связывается с мышлением — его пользой, надежностью, целесообразностью и общезначимостью. Это некое проникновение в теоретический мир, где мышление ищет способы распознавания скрытых связей и взаимодействий. М. Вебер описывает рациональность как точный расчет адекватных средств для определенной цели [1, с. 56], Л. Витгенштейн — как наилучшую адаптированность к обстоятельствам, Ст. Тулмин — как логическую обоснованность правил деятельности [8]. У. Дрей рациональным считает всякое объяснение, которое стремится установить связь между убеждениями, мотивами и поступками человека [10, с. 37]. А. Никифоров утверждает, что рациональность следует рассматривать трояко: как соответствие «законам разума», как «целесообразность» и как цель науки. И. Т. Касавин видит в рациональности характеристику не только познания, но и человеческой деятельности вообще. Он выделяет основные группы признаков, которыми исследователи пользуются при описании рациональности: эпистемические — доказательность, логичность, истинность и т. д. и деятельностные — целесообразность, эффективность, экономичность и пр. [2, с. 62]. При всей многозначности данного понятия его смысл можно свести к природной упорядоченности реальности, отраженной в разуме; к концептуально-дискурсивному пониманию мира; к нормам и методам научного исследования и деятельности (что в этом случае позволяет отождествить рациональность с научной методологией) [6, с. 284—285].
Понятие рациональности связывается в первую очередь с разумом. Проблема соотношения разума и веры в богословии поднималась на протяжении многих веков. Однако разум и вера, обладающие разной степенью значимости в зависимости от времени и места, всегда оставались основными средствами познания. Это подтверждает С. С. Неретина, рассматривая проблему разума и веры и выделяя три основных периода в их взаимоотношении: до X века, когда разум и вера опирались на авторитет; X—XII вв., когда начинает ставиться вопрос о верификации авторитетного суждения разумом и когда происходит дисциплинарное разделение теологии и философии; XIII—XIV вв., когда признается теория двойственной истины, предполагающей сосуществование двух видов истины: истин веры и истин разума. Автор также отмечает, что у этих периодов существовали и общие черты: признание высшей разумной силы, для познания которой требовалась вера; признание ограниченности человеческого разума в сравнении с Божественной Премудростью, но участие ума в акте познания наравне с другими способностями человека [5, с. 101].
Таким образом, несмотря на изменяющиеся представления о значимости и приоритете веры или разума в познании, в зависимости от эпохи или географии, эпистемологи полагают, что в современной научной, философской и религиозной практике присутствуют оба эти элемента. Современное богословие, которое выступает как полноценное знание в рамках неклассической эпистемологии, включает в себя примат веры над знанием, но придает разуму одно из ключевых мест в религиозном познании. Это означает признание и несомненную важность разума, то есть его необходимое присутствие в богословии.
Таким образом, наличие разума в процессе богословского познания служит признаком рациональности в нем.
Исторически рациональность принято относить к такой форме познавательной деятельности, как наука, и периоду классической гносеологии. Однако в конце XX века в эпистемологии произошли существенные изменения и сложилась ситуация, допускающая отклонение от строгих норм и предписаний научной рациональности. Познание перестало отождествляться только с наукой, а знание — с результатом только научной деятельности. Рациональность стала пониматься шире.
Проблема исторических типов рациональности была предметом рассмотрения многих отечественных исследователей XX века. Традиционной является точка зрения В. С. Швырева на существование двух типов научной рациональности — классического и неклассического [12, с. 114—170]. Первый тип рациональности опирается на идеал исключения из процесса познания всего, что связано с субъектом и его познавательными способностями. Второй тип рациональности характеризуется взаимодействием субъекта и объекта в процессе познания и учитывает связь знаний, получаемых об объекте, со средствами и способами их получения субъектом. Признается активное участие субъекта в процессе познания. На первый план выходит не исключение всех помех со стороны сопутствующих факторов и средств познания, а уточнение их роли и влияния на познавательную деятельность субъекта. Внимательное отношение к характеристикам взаимоотношений субъекта и объекта в процессе познания является важным моментом в понимании особенностей неклассического типа научной рациональности.
Богословие не является наукой в ее классическом понимании и приобретает более высокий эпистемологический статус и свое значение в виде полноценного знания в неклассической эпистемологии. Оно не может полностью соответствовать какому-либо из научных типов рациональности, поскольку характеристики его познавательной деятельности выходят за рамки научности. Однако эпистемологическое рассмотрение богословия как формы познания ведет к необходимости выяснения его отношений к понятию рациональности. Поскольку большинство богословских дисциплин можно охарактеризовать как гуманитарные, то рациональность в виде определенного порядка мышления (как упорядоченность, системность, целерациональность), безусловно, присутствует в них. Необходимо вы- яснить основополагающие характеристики богословской рациональной деятельности.
Кандидат философских наук, заведующий кафедрой систематического богословия и патрологии Богословского факультета ПСТГУ П. Б. Михайлов в труде «Категории богословской мысли» характеризует христианскую рациональность как рациональность особого рода, отмечая в ней взаимосвязь дискурсивного и духовного опыта. Автор видит разумную составляющую богословского познания в интеллектуальной деятельности богословов, в рациональной способности и деятельности человеческого разума. По его мнению, рациональное мышление в богословии занимает важное место в процессе получения знаний.
Истину в богословии получают через восприятие божественных проявлений — энергий с помощью рациональных способностей человека. Однако так как разумные способности достаточно ограничены и составляют лишь наши представления об истине, поиск соответствия между представлениями и действительностью и есть путь к истине. Но интеллектуальные усилия человека (опыт мысли) в поиске истины оказываются абсолютно бесполезными без божественных энергий (опыта веры). «Воплощение божественной реальности в богословских понятиях — это прямой результат Божественного Откровения, это запечатленная божественная энергия. И богословское понятие есть точка встречи с божественной энергией» [3, с. 46]. «Нельзя разобщить акт веры и факт богословия» [3, с. 44].
Таким образом, христианское познание оказывается рациональным за счет поиска истины с помощью рациональных способностей человека и веры. Это рациональность особого рода. П. Б. Михайлов утверждает, что богословская рациональность имеет двойное основание: с одной стороны, запредельное человеческому опыту, с другой — укорененное в самом человеческом существовании. По его мнению, «рациональность и есть основная форма христианского богословия…» [3, с. 47]. Так, богословская рациональность коренится в нераздельности опыта веры и опыта мысли, веры и разума, что является ценным выводом для понимания важности рациональных принципов в богословии.
Важной характеристикой богословия является то, что оно включает в себя не только сферу дискурсивной практики получения знания, но и сферу духовных практик приобретения религиозного опыта. Поэтому, во-первых, можно говорить о том, что в целом богословие включает в себя как рациональные (теоретические), так и иррациональные (мистические) способы познания. Во-вторых, субъект познания включен в этот процесс и в случае приобретения религиозного опыта в результате духовных практик непосредственно взаимодействует с объектом. Из вышесказанного следует, что богословская рациональность соответствует некоторым принципам неклассической научной рациональности. Однако богословие в целом выходит из области научности за счет специфических способов, методов получения и доказательности знания — существования религиозной веры и духовных практик и критерия достоверности получаемого знания (нахождения в пределах религиозной традиции).
Степин В. C. добавляет к двум разработанным в эпистемологии научным типам рациональности еще третий, выходящий из области науки, тип — постнеклассический [9, с. 18]. Данный взгляд на исторические типы рациональности поддержан пока немногими исследователями, но достаточно интересен для выявления специфики богословской рациональности. Постнеклассический тип рациональности характеризуется вниманием не только к средствам и методам познавательной деятельности субъекта (то есть научным структурам), но и к его социальным ценностно-целевым установкам [7, с. 93—111]. Данную характеристику можно отнести к рациональности в богословии, поскольку процесс богословского познания всегда в определенной степени направлен на достижение конечной цели религиозного субъекта. Основными целями субъекта в христианском богословии могут быть прирост нового знания, защита, оправдание религиозной традиции и приближение к спасению. Православная религиозная традиция в конечном счете ориентирует верующего субъекта на достижение спасения. П. А. Флоренский говорит по этому поводу: «Если онтологически религия есть жизнь нас в Боге и Бога в нас, то феноме-налистически — религия есть система таких действий и переживаний, которые обеспечивают душе спасение» [11, с. 334]. Поэтому любое получаемое богословское знание осмысливается в сотериологической перспективе. Следовательно, учет целенаправленности конфессиональной традиции, в которой находится субъект, необходим для оценки его перспективы и результатов познания.
Основные принципы неклассической эпистемологии также накладывают свой отпечаток на богословскую рациональность. Посткритицизм свидетельствует о вписанности познающего субъекта в ту или иную конфессиональную традицию. Отказ от фундаментализма свидетельствует о невозможности существования жестких норм получения знания [4, с. 9—15]. В богословии это проявляется в сосуществовании как дискурсивной методологии получения знания о Боге, так и духовных практик достижения богообщения.
Рациональность в богословии, таким образом, сочетает в себе следующие характеристики. Она предполагает собой вписанность познающего субъекта в ту или иную конфессиональную традицию, важность ценностно-целевых установок субъекта, возможность выхода за строгие рамки научных методов (единство как рациональных, так и нерациональных форм познания), проявление творческого начала исследователя (применение своих собственных методов, привнесение индивидуального духовного религиозного опыта). Одним из основных принципов богословской рациональности является принцип внимательного отношения к взаимосвязи субъекта и объекта, средств познавательной деятельности субъекта и природы объекта. Поэтому можно говорить, что богословская рациональность следует некоторым принципам неклассической рациональности, в целом же выходит за рамки идеалов научной (классической или неклассической) рациональности.
Эпистемологическими основаниями богословского познания можно считать приоритетность взаимодействия познающего субъекта и познаваемого объекта (Бога) и сочетание рациональных и нерациональных методов получения знания. Данные специфические черты религиозной рациональности дают возможность для нормального развития религиозной науки.
Список литературы Специфика рациональности в богословском познании
- Вебер М. Избранное. Образ общества: пер. с нем./М. Вебер. -М.: Юрист, 1994. -704 с. -С. 56.
- Касавин И. Т. О социальном содержании понятия «рациональность»/И. Т. Касавин//Философские науки. -1985. -№ 6. -С. 60-67.
- Михайлов П. Б. Категории богословской мысли/П. Б. Михайлов. -М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. -310 с. -С. 44, 46, 47.
- На пути к неклассической эпистемологии/РАН, Ин-т философии; отв. ред. В. А. Лекторский. -М.: ИФРАН, 2009. -237 с. -С. 9-15.
- Неретина С. С. Вера и разум/С. С. Неретина//Энциклопедия эпистемологии и философии науки. -М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. -С. 101-105.
- Никифоров А. Л. Философия науки: история и методология/А. Л. Никифоров//Библиотека учебной и научной литературы. -М., 1998. -URL: http://www.sbiblio.com/biblio/archive/nikiforov_filnauki/00.aspx (дата обращения: 23.12.2014). -С. 284-285.
- Порус В. Н. Эпистемология: некоторые тенденции/В. Н. Порус//Вопр. философии. -1997. -№ 2. -С. 93-111.
- Рациональность//Национальная философская энциклопедия. -URL: http://terme.ru/dictionary/189/word/racionalnost (дата обращения: 27.10.2013).
- Степин В. С. Философская антропология и философия науки/В. С. Степин. -М.: Высш. шк., 1992. -191 с.
- Философия и методология истории: сб. ст./ред. И. С. Кон. -М.: Изд-во «Прогресс», 1977. -336 с. -С. 37.
- Флоренский П. А. Разум и диалектика/П. А. Флоренский//Русская философия, конец XIX -начало XX века. Антология: учеб. пособие/вступ. ст. А. А. Ермичева, сост. и примеч. Б. В. Емельянова, А. А. Ермичева. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1993. -592 с. -С. 333-342.
- Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры. Традиция и современность/В. С. Швырев. -М.: Прогресс-Традиция, 2003. -176 с. -С. 114-170.