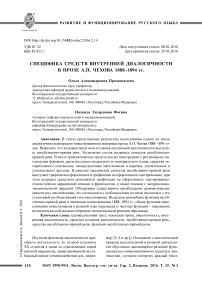Специфика средств внутренней диалогичности в прозе А. П. Чехова 1888-1894 гг.
Автор: Прохватилова Ольга Александровна, Фотина Надежда Эдуардовна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты исследования одного из типов диалогичности авторского повествования на материале прозы А.П. Чехова 1888-1894 годов. Выявлено, что ведущим средством создания внутренней диалогичности выступает несобственно-прямая речь. Установлен состав языковых сигналов несобственно-прямой речи. В число грамматических средств входят конструкции с различными глагольными формами, средства смены модального и темпорального плана, средства экспрессивного синтаксиса, неопределенные местоимения и наречия, указательные и усилительные частицы. В качестве лексических сигналов несобственно-прямой речи выступает графически оформленное и графически не оформленное «цитирование», при этом ведущим средством оказывается графически не оформленное «цитирование» стилистически окрашенной лексики и фразеологии, а также лексики с экспрессивно-эмоциональной окраской. Обнаружено существенное преобладание грамматических средств над лексическими, что соотносится с особенностями поэтики писателя и с его установкой на объективный тип повествования. Выделены важнейшие функции несобственно-прямой речи в чеховском повествовании 1888-1894 гг.: общая функция переключения повествования в речевой план персонажа и частные функции - выражения интеллектуальной оценки и передачи эмоциональной реакции персонажа.
Художественный текст, чеховская проза, диалогичность, внутренняя диалогичность, средства создания диалогичности, несобственно-прямая речь, средства несобственно-прямой речи, функции несобственно-прямой речи
Короткий адрес: https://sciup.org/14970287
IDR: 14970287 | УДК: 81’42 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2016.2.14
Текст научной статьи Специфика средств внутренней диалогичности в прозе А. П. Чехова 1888-1894 гг.
DOI:
Изучение феномена диалогичности приобрело актуальность во второй половине XX столетия в связи со становлением новой научной парадигмы, ориентированной на глобальный диалог и взаимодействие (см., напри-
мер: [2; 4 и др.]). Положение о диалогической природе мыслительной и речевой деятельности обусловило закономерное развитие функционально-коммуникативного подхода в лингвистике, согласно которому каждый текст,
будучи порождением акта коммуникации, должен рассматриваться с точки зрения прагматики не только адресанта, но и адресата.
Исследование категории диалогичности текста получило разнообразное и многоаспектное теоретическое обоснование [1; 5; 8; 12; 16; 17; 20 и др.]. В данной работе диалогичность понимается как речемыслительная функционально-семантическая категория, в которой проявляются те или иные признаки диалога (подробнее об этом см.: [16, с. 229–290]). В зависимости от соотношения релевантных признаков мы выделяем три типа диалогичности: внешнюю, внутреннюю и глубинную [16, с. 229–290].
Диалогичность прозы А.П. Чехова неоднократно становилась объектом изучения в работах литературоведов [7; 9; 11; 21], тогда как лингвистами проблемы художественной коммуникации в прозаических произведениях писателя практически не рассматривались. Данная статья отчасти восполняет этот пробел.
Материалом для исследования послужили художественные прозаические произведения А.П. Чехова, написанные в период 1888– 1894 годов. Анализу подвергались те рассказы и повести, где в качестве основной формы авторского повествования используется форма 3-го лица, при которой фактический производитель речи не совпадает с ее субъектом, то есть изложение ведется условным, не персонифицированным повествователем. Структура третьеличного нарратива определяет потенциальную субъектную многоплановость художественного текста и тем самым, посредством введения «других» точек зрения и голосов, в наибольшей степени отражает его диалогичность.
В качестве единицы наблюдения избраны текстовые фрагменты, содержащие диалогические языковые формы. Общий объем проанализированного материала составляет 15 печатных листов.
По нашим наблюдениям, в прозе А.П. Чехова находят отражение два типа диалогичности – внешняя, связанная с направленностью речи на адресата и, соответственно, актуализацией «ты»-сферы модуса высказывания, и внутренняя, реализующаяся благодаря смене речевой позиции субъекта речи, то есть модификации
«я»-сферы модуса высказывания. В рамках данной статьи остановимся на вопросах, касающихся функционирования в чеховской прозе категории внутренней диалогичности.
Как известно, внутренняя диалогичность реализует в монологическом контексте один из основных признаков диалога – реплициро-вание, то есть обмен высказываниями, которые в порядке смены или прерывания передают реакции коммуникантов на смысловые позиции друг друга относительно предмета обсуждения [16, с. 258; 22, с. 44].
В нашем материале внутренняя диалогичность связана со сменой точек зрения в авторском повествовании. Она сводится к воспроизведению речи персонажа в рамках повествовательной структуры в форме прямой (внутренний монолог) и несобственнопрямой речи. При этом основной формой переключения повествования в план персонажа выступает несобственно-прямая речь (да-лее– НПР).
Известно, что НПР – это особая форма передачи чужого слова в художественном тексте. Для нее характерна совмещенность речевых планов повествователя и персонажа [19, с. 4], что позволяет освещать одно и то же явление одновременно с разных точек зрения [10, с. 66], благодаря чему возникает диалогичность текста, основанная на различиях в эмоционально-смысловой и стилистической окраске отдельных его частей [1, с. 10].
Структура НПР сама по себе гетероген-на, поскольку ее формируют единицы разных уровней [6, с. 3]. В чеховской прозе 1888– 1894 гг. НПР оформляется с помощью комплекса лексических (13 %) и грамматических (87 %) средств.
К грамматическим маркерам НПР исследователи обычно относят средства смены темпорального плана повествования, различные модальные конструкции, восклицательные и вопросительные предложения, лексические повторы, неопределенные местоимения, наречия и частицы. Однако в имеющихся на сегодняшний день работах номенклатура грамматических средств НПР не дифференцирована и обычно дается общим списком.
В анализируемых произведениях используется весь спектр перечисленных грамматических средств. Вместе с тем представляет- ся необходимым объединить их в несколько групп. Частотность употребления формирующих их конституентов отражена в диаграмме.
Выявлено, что наиболее частотными средствами НПР (31 % употреблений от общего объема) являются конструкции с личными, безличными, инфинитивными, деепричастными и причастными глагольными формами. Данные конструкции представлены тремя типами:
-
1. Конструкция «глагольная форма + подчинительный союз / союзное слово» (69 %), в которой функционируют прежде всего личные, инфинитивные, деепричастные, а также – в единичных случаях – безличные и причастные формы, например:
-
2. Конструкция «глагольная форма + дополнение в косвенном падеже, указывающее на субъект» (17 %), в которой задействованы, как правило, безличные формы, например:
-
3. Конструкция «глагольная форма + дополнение в косвенном падеже, указывающее на субъект + подчинительный союз / союзное
Оба чувствовали , что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали , что оба они неприличны и что даже стриженый Коростелев понимает все («Попрыгунья»).
...и ему захотелось броситься вниз головой, не из отвращения к жизни, не ради самоубийства, а чтобы хотя ушибиться и одною болью отвлечь другую («Припадок»).
слово» (14 %), в которой используются безличные и – значительно реже – инфинитивные глагольные формы, например:
Ей казалось , что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бранить ее за то, что она все лежит и не хочет работать («Скрипка Ротшильда»).
Как видно из примеров, для введения в повествовательную структуру текста «голоса» персонажа используются глаголы определенных лексико-семантических групп. В первую очередь это глаголы интеллектуальной деятельности, семантика которых связана с такими ментальными процессами, как мышление, память и знание; глаголы психической деятельности со значением желания, эмоционального отношения и эмоционального переживания (состояния); глаголы речи. Конструкции с такими глагольными формами могут служить для выражения интеллектуальной оценки и отображения хода рассуждений персонажа, а также для передачи его эмоциональной реакции на то или иное явление действительности и указания на его психологическое и эмоциональное состояние.
Вторая по частотности группа грамматических маркеров НПР включает средства смены модального плана повествования (28 %): безличные предложения, вводные слова и конструкции, обобщенно-личные предложения, предложения с формами сослагательного и условного наклонений.
В безличных предложениях главный член может быть выражен безлично-преди-

Частотность употребления грамматических средств НПР в прозе А.П. Чехова 1888–1894 гг.
кативным словом на - о ; модальным безлично-предикативным словом либо безличным глаголом в сочетании с инфинитивом; отрицательным словом или выражающей отрицание конструкцией; личным глаголом в безличном значении, например:
-
(1) Качки нет, тихо , но зато душно и жарко , как в бане; не только говорить, но даже слушать трудно . Гусев обнял колени, положил на них голову и думает о родной стороне («Гусев»);
-
(2) ...и завидовала она, и жалко ей было , что она сама не грешила, когда была молода и красива («Бабы»).
Как видно из приведенных и подобных примеров, функционирование безличных предложений в качестве средства переключения в план персонажа обусловлено семантикой предиката, связанной либо с указанием на психическое, эмоциональное или физическое состояние персонажа, на его зрительное или слуховое восприятие (1), либо с передачей интеллектуальных и эмоциональных оценок героя (2).
Что касается вводных слов и конструкций, то в нашем материале наиболее частотными оказались те из них, семантика которых связана с выражением эмоциональных реакций и интеллектуальных оценок адресанта, указанием на порядок мыслей и их связь, а также на источник сообщения, например:
Что странного или мудреного, например , хоть в рыбе или в ветре, который срывается с цепи? Положим , что рыба величиной с гору и что спина у нее твердая, как у осетра; также положим , что там, где конец света, стоят толстые каменные стены, а к стенам прикованы злые ветры... Если они не сорвались с цепи, то почему же они мечутся по всему морю, как угорелые, и рвутся, словно собаки? Если их не приковывают, то куда же они деваются, когда бывает тихо? («Гусев»).
В приведенном примере речевой план персонажа маркируется вводными словами со значениями акцентирования ( например ) и допущения ( положим ). Они оформляют рассуждения персонажа, благодаря чему достигается эффект имитации непосредственного протекания его мыслительных процессов.
Маркировать появление «голоса» персонажа в чеховском повествовании могут и такие средства трансформации модальности, как обобщенно-личные предложения, а так- же предложения с формами сослагательного и условного наклонений, например:
Если бы она могла предположить , когда выходила, что это так тяжело, жутко и безобразно, то она ни за какие блага в свете не согласилась бы венчаться . Но теперь беды не поправишь («Володя большой и Володя маленький»).
Приведенный и подобные примеры позволяют утверждать, что с помощью перечисленных средств смены модального плана эксплицируются интеллектуальная оценка персонажа, его эмоциональные реакции на происходящее.
Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала позволил установить, что третью по частотности группу грамматических средств НПР в чеховском повествовании образуют средства изменения темпорального плана повествования за счет появления глагольных форм настоящего или будущего времени (16 %), например:
Его мучила мысль, что он, порядочный и любящий человек (таким он до сих пор считал себя), ненавидит этих женщин и ничего не чувствует к ним, кроме отвращения («Припадок»).
Как отмечает А.В. Бровина, по отношению к речи автора эти формы имеют переносное значение и используются в значении прошедшего времени, однако «по смыслу они входят в речь персонажа и по отношению к его речи имеют прямое значение» [6, с. 16]. Функция смены глагольных форм времени заключается в переключении повествования в речевой план героя.
Четвертая по частотности группа грамматических средств НПР (14 %) включает такие элементы экспрессивного синтаксиса, как лексический повтор, восклицательные и вопросительные предложения, инверсия.
Согласно полученным данным, наиболее употребительными среди них являются лексические повторы служебных и самостоятельных частей речи, например:
-
(3) Он уже не думал ни о женщинах, ни о мужчинах, ни об апостольстве («Припадок»);
-
(4) Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. Пятьдесят два года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго <...> («Скрипка Ротшильда»).
Как видно из приведенных примеров, лексические повторы способствуют появлению несвойственной авторской манере изложения экспрессивности (3), что является сигналом переключения повествования в план персонажа. Кроме того, они могут указывать на субъективное восприятие происходящего персонажем (4).
Восклицательные и вопросительные предложения как субъектно-экспрессивные формы синтаксиса, маркирующие НПР в анализируемых рассказах А.П. Чехова, могут использоваться автономно либо сочетаясь друг с другом в рамках узкого контекста, например:
... воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь? Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов? Милый Дымов! Как кротко и детски-жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой! Каждый месяц он высылал ей по 75 рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникам сто рублей, то он прислал ей и эти сто. Какой добрый, великодушный человек! («Попрыгунья»).
Из приведенного примера видно, что с помощью восклицательных и вопросительных предложений передается эмоциональная реакция персонажа либо его интеллектуальная оценка происходящего.
Инверсия в анализируемом материале обычно используется для выражения значения приблизительности, например:
...Софья вышла за ворота и села на лавочку. Ей было душно, и от слез разболелась голова. Улица была широкая и длинная; направо версты две , налево столько же, и конца ей не видно («Бабы»).
В представленном примере с помощью инверсии положение дел описывается с позиции героини, ограниченной в объеме своих знаний, что свидетельствует о переключении повествования в речевой план персонажа.
Пятая по частотности группа грамматических средств НПР включает неопределенные местоимения и наречия (8 %). Они позволяют изобразить какое-либо событие, предмет или действующее лицо в объеме знаний персонажа, с учетом степени его осведомленности относительно происходящего, например:
Егор Семеныч и Таня сидели на ступенях террасы и пили чай. Они о чем-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали, и он заключил по их лицам, что разговор у них шел о нем («Черный монах»).
Наконец, последняя группа грамматических средств НПР представлена указательными и усилительными частицами и местоимениями (3 %). В нашем материале релевантной оказывается прежде всего частица вот .
В указательной частице вот , как известно, заложено представление о зрителе, который наблюдает некую последовательность событий, сценическое действие, условием которого является единство времени и места [14, с. 12 и др.]. Эта указательная частица выступает в функции пространственного дейксиса, благодаря чему возникает эффект «присутствия»: предмет или явление описываются как находящиеся в непосредственной близости от персонажа, а действие – как происходящее непосредственно перед его глазами. Именно поэтому исследователями отмечено, что указательный оттенок значения частицы вот помогает «оживить» повествование, сделать его реальным, представить в настоящем [13, с. 22; 21, с. 86].
В нашем материале указательная частица вот может выступать как в комплексе с противительным союзом а , открывающим предложение и усиливающим акцентирующее значение этой частицы, так и самостоятельно. В этих случаях частица вот является сигналом смены речевого плана, например:
Гусев не слушает и смотрит в окошечко <...> О лодку стукнулась другая лодка, пробежал паровой катер. А вот еще лодка: сидит в ней толстый китаец и ест палочками рис («Гусев»).
В сочетании с местоимениями или наречиями частица вот актуализирует ряд модальных значений, обусловленных отношением героя к происходящему, например:
Но вот наконец гости ушли, огни тушатся, хозяева ложатся спать («Спать хочется»).
В данном примере сочетание модальной частицы и модального наречия позволяет ей реализовать функцию передачи эмоциональной реакции персонажа на происшедшее.
В чеховской прозе НПР также может оформляться с помощью лексических средств языка (13 % от общего объема данных).
Говоря о единицах лексического уровня, маркирующих речь персонажа, исследователи, как правило, ограничиваются указанием на стилистически маркированную лексику, выделяющуюся на фоне нейтрального авторского повествования [3; 6; 15; 18 и др.]. В работах, посвященных изучению поэтики и стиля А.П. Чехова, также отмечается прием «“цитирования” слов из прямой речи персонажа» [21, с. 53] в виде «отдельных характерологических вкраплений» [11, с. 88].
В нашем материале лексические средства НПР представляют собой слова и словоформы, которые включены в структуру авторского повествования, однако воспринимаются как принадлежащие персонажу. «Цитирование» может быть графически оформленным (с помощью кавычек) (5) и графически не оформленным (6), например:
-
(5) Незаметно подошел Успенский пост, а за ним скоро и день свадьбы, которую, по настойчивому желанию Егора Семеныча, отпраздновали «с треском» («Черный монах»);
-
(6) <...> на каждом лице он читал только выражение обыденной , пошлой скуки и ничего больше. Глупые глаза, глупые улыбки, резкие , глупые голоса, наглые движения – и ничего больше («Припадок»).
Ведущим средством, по нашим наблюдениям, является графически не оформленное «цитирование» (96 %), как правило, функционально-стилистически окрашенной лексики и фразеологии и в единичных случаях – экспрессивно-эмоциональной лексики.
Обычно в качестве сигналов НПР выступают лексические единицы, имеющие сниженную функционально-стилистическую окраску – разговорную или просторечную, например:
...для него теперь ясно было, что Марфа помрет [прост.] очень скоро, не сегодня - завтра [разг.] («Скрипка Ротшильда»).
Экспрессивно-эмоциональная лексика представлена эмоционально-оценочными словами, которые выражают отношение говорящего к предмету речи. Благодаря семантике оценочности такие лексические вкрапления идентифицируются как принадлежащие персонажу, а не автору-повествователю, например:
Он знал, что есть такие безнравственные женщины, которые под давлением роковых обстоятельств – среды, дурного воспитания, нужды и т. п. вынуждены бывают продавать за деньги свою честь («Припадок»).
Приведенный и подобные примеры дают основания утверждать, что функции таких лексических единиц заключаются в выражении интеллектуальной и эмоциональной оценки.
Иногда сниженные или эмоциональнооценочные лексемы могут сопровождаться глаголами речевого действия, которые, благодаря своей семантике, дополнительно привлекают внимание к «чуждому» авторской речи лексическому включению, указывая на то, что оно принадлежит персонажу, а не автору, например:
Легкий остроносый челнок, который все гости звали душегубкой [разг.] <...> бежал быстро <...> («Именины»).
Графически оформленное «цитирование» встречается значительно реже (менее 4 %) и указывает на смену речевого плана, например:
-
У него, как он говорит, «разыгралась грыжа» («Спать хочется»).
Таким образом, анализ имеющегося в нашем распоряжении материала позволяет констатировать, что в прозе А.П. Чехова 1888–1894 гг. наблюдается внутренняя диалогичность авторского повествования, которая сводится к воспроизведению речи персонажа в рамках повествовательной структуры текста. Установлено, что основной формой переключения повествования в план персонажа является НПР.
В качестве сигналов НПР выступают грамматические и лексические средства. При этом имеет место явное преобладание грамматических средств, что соотносится с особой художественной манерой писателя и его установкой на объективный тип повествования, в котором устранена субъективность повествователя и господствует точка зрения и слово героя.
В состав грамматических маркеров НПР входят несколько групп средств, из которых наиболее частотны подчинительные конструкции с различными глагольными формами и разнообразные средства смены модального плана.
Среди лексических средств НПР релевантными для прозы А.П. Чехова 1888– 1894 гг. оказываются графически оформленное и графически не оформленное «цитирование» при преобладании последнего, которое представлено функционально-стилистически окрашенной лексикой и фразеологией, а также лексикой с экспрессивно-эмоциональной окраской.
Наблюдения над материалом дают основания говорить о важнейших функциях НПР. Переключая повествование в речевой план персонажа, НПР позволяет выразить интеллектуальные оценки персонажа и передать его эмоциональные реакции.
Список литературы Специфика средств внутренней диалогичности в прозе А. П. Чехова 1888-1894 гг.
- Арутюнова, А. Ю. Диалогичность текста и категория связности: автореф. дис.. канд. филол. наук/Арутюнова Анаида Юрьевна. -Ставрополь, 2007. -22 с.
- Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского/М. М. Бахтин. -4-е изд. -М.: Сов. Россия, 1979. -315 с.
- Беличенко, Е. Е. Несобственно-прямая речь в языке художественной литературы: автореф. дис.. канд. филол. наук/Беличенко Елизавета Евгеньевна. -СПб., 2006. -19 с.
- Библер, В. С. Мышление как творчество/В. С. Библер. -М.: Политиздат, 1975. -199 с.
- Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста: словарь-тезаурус/Н. С. Болотнова. -4-е изд. -М.: Флинта: Наука, 2009. -384 с.
- Бровина, А. В. Сопоставительный анализ языковых средств выражения несобственно-прямой речи в немецком и русском языках: автореф. дис.. канд. филол. наук/Бровина Анна Викторовна. -Екатеринбург, 2009. -26 с.
- Громов, М. П. Книга о Чехове/М. П. Громов. -М.: Современник, 1989. -384 с.
- Дускаева, Л. Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров: автореф. дис.. д-ра филол. наук/Дускаева Лилия Рашидовна. -СПб., 2004. -42 с.
- Еремина, Л. И. Структура художественного текста: позиция автора, повествователя и персонажа в художественном тексте (на материале рассказов А.П. Чехова)/Л. И. Еремина//Структура лингвостилистики и ее основные категории: межвуз. сб. науч. тр. -Пермь: ПГУ, 1983. -С. 109-114.
- Ковтунова, И. И. Проблема несобственно-прямой речи в трудах В.В. Виноградова (из истории отечественной мысли)/И. И. Ковтунова//Вопросы языкознания. -2002. -№ 1. -С. 65-71.
- Кожевникова, Н. А. Стиль Чехова/Н. А. Кожевникова. -М.: Азбуковник, 2011. -487 с.
- Кожина, М. Н. О диалогичности письменной научной речи/М. Н. Кожина. -Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1986. -245 с.
- Муминов, В. И. Стилистические функции частиц в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»: автореф. дис.. канд. филол. наук/Муминов Владимир Исмаилович. -Владивосток, 2009. -25 с.
- Овчинникова, Т. Е. Пространственная метафора в семантике модальных частиц дейктического происхождения: автореф. дис.. канд. филол. наук/Овчинникова Татьяна Евгеньевна. -М., 2009. -24 с.
- Прохватилова, О. А. Возможности интерпретации художественного текста интонационно-звуковыми средствами (на материале художественного чтения прозы А.П. Чехова): дис.. канд. филол. наук/Прохватилова Ольга Александровна. -М., 1991. -226 с.
- Прохватилова, О. А. Православная проповедь и молитва как феномен современной звучащей речи/О. А. Прохватилова. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1999. -362 с.
- Прохватилова, О. А. Функционирование средств внутренней диалогичности в научных текстах XX века (синхронно-диахронический аспект)/О. А. Прохватилова, Е. Н. Вотрина//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. -2011. -№ 2 (14). -С. 186-191. - DOI: 10.15688/jvolsu2.2011.2.34
- Ригато, С. Несобственно-прямая речь и ее формы во второй части романа Ю.К. Олеши «Зависть»/С. Ригато//Slavica tergestina: Studia russica. -1998. -№ 6. -С. 163-195.
- Сысоева, В. В. Нарративный потенциал несобственно-прямой речи в художественном тексте: автореф. дис.. канд. филол. наук/Сысоева Валентина Владимировна. -Белгород, 2004. -22 с.
- Чубай, С. А. Диалогичность современной политической рекламы: дис.. канд. филол. наук/Чубай Светлана Анатольевна. -Волгоград, 2007. -218 с.
- Чудаков, А. П. Поэтика Чехова/А. П. Чудаков. -М.: Наука, 1971. -290 c.
- Якубинский, Л. П. О диалогической речи/Л. П. Якубинский//Избранные работы: язык и его функционирование. -М.: Наука, 1986. -С. 17-58.
- Чехов, А. П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т./А. П. Чехов. -Т. 1-10. -М.: Наука, 1974-1977.