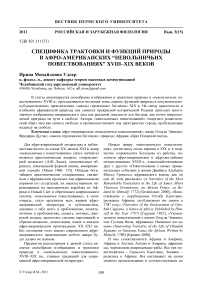Специфика трактовки и функций природы в афро-американских "невольничьих повествованиях" XVIII-XIX веков
Автор: Удлер Ирина Михайловна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 (15), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется своеобразие изображения и трактовки природы в «невольничьих повествованиях» XVIII в., прослеживается эволюция темы, картин, функций природы в документально-публицистических произведениях «школы героических беглецов» XIX в. На смену красочности и изобилию африканской природы как символу прекрасной исторической Родины приходит многозначное изображение американского леса как реальной опасности для беглеца, как почти непреодолимой преграды на пути к свободе. Авторы «невольничьих повествований» отвергают романтический образ леса как символ свободы и противопоставляют ему пространство города, пробуждающее надежду на свободу.
Афро-американские "невольничьи повествования", жанр, олауда эквиано, фредерик дуглас, "школа героических беглецов", природа, африка, образ полярной звезды
Короткий адрес: https://sciup.org/14729006
IDR: 14729006 | УДК: 821.111(73)
Текст научной статьи Специфика трактовки и функций природы в афро-американских "невольничьих повествованиях" XVIII-XIX веков
Фредерик Дуглас; «школа героических беглецов»;
Для афро-американской литературы и публицистики вплоть до конца XX–начала XXI в. жанр «невольничьего повествования» (slave narrative) является архетипическим жанром, «порождающей моделью» (А.Ф. Лосев), «изначальным образцом, изначальной формой жизни, вневременной схемой» [Манн 1960: 175]. Обладая богатейшим архетипическим содержанием, связанным с африканским прошлым или африканскими корнями его создателей, их насильственным перемещением на невольничьих кораблях из Африки в Новый Свет и обретенным американским опытом, «невольничье повествование», в свою очередь, стало архетипом всех жанров афроамериканской литературы и публицистики, дающим о себе знать в проблематике, сюжете, мотивах в проблематике, сюжете, мотивах, жанровой модели, хронотопе, системе персонажей, в образах-символах, композиции, языке в каждом афро-американском произведении XX–XXI вв. Без осознания этого анализ современного афроамериканского произведения любого жанра будет далеко не полным.
Предметом рассмотрения в данной статье является своеобразие изображения и трактовки природы в «невольничьих повествованиях» XVIII–XIX вв., ставшее традицией для современной афро-американской литературы.
природа; Африка; образ Полярной звезды.
Начало жанру «невольничьего повествования», достигшему своих вершин в XIX в. в творчестве «героических беглецов» из рабства, положили афро-американские и афро-английские «повествования» XVIII в., взаимодействовавшие друг с другом: «Повествование о самых примечательных событиях в жизни Джеймса Альберта Юкосо Гроньосо, африканского вождя, как он сам об этом рассказал» ( A Narrative of the Most Remarkable Particulars in the Life of James Albert Ukawsaw Gronniosaw, an African Prince, as Related by Himself , 1772) [Gronniosaw 2000], «Повествование о порабощении Оттоба Кьюгоано, уроженца Африки; опубликовано им самим в 1787 году» (Narrative of the Enslavement of Otto-bah Cugoano, a Native of Africa; Published by Himself in the Year 1787 ) [Cugoano 1825], «Увлекательное повествование о жизни Олауда Эквиано, или Густава Вазы, африканца. Написано им самим» ( Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African. Written by Himself , 1789) [Equiano 2000].
В них сопоставляются Африка и Америка, Африка и Англия, Англия и Америка, африканцы, чернокожие американские рабы. Все три повествователя – Гроньосо, Кьюгоано, Эквиано – родились в Африке. Все настаивают на своем знатном происхождении и соответствующем их происхождению воспитании. Все были похищены и после странствий по Африке проданы в рабство. Все совершили мучительное путешествие на невольничьем корабле к берегам Америки (The Middle Passage) и затем странствовали на кораблях-парусниках, курсировавших взад и вперед между Карибскими островами, Америкой, Европой, путешествовали по суше по Европе (Англия, Голландия, Германия, Испания) и Америке. Во всех трех «повествованиях» единый хронотоп странствий по морю и по суше, в котором огромное место занимает хронотоп и образ парусника, не позволяющий забыть о хронотопе The Middle Passage.
Рассказывая о своем детстве и отрочестве, которые прошли в родной Африке, Гроньосо использует жанры путевого очерка с его взглядом путешественника на свою и чужую землю, этнографических заметок. Отчетливо звучит тема прекрасной Африки с ее великолепными пальмами, дающими африканцам и пищу, и питье, и одежду, и звучит ирония в адрес тех, кто думает, что африканцы не носят одежды. Он воспевает красоту африканских пальм, «огромных, высоких и величественных», воспевает их важное место в жизни людей. В большом пассаже, напоминающем стихотворение в прозе, описывается, как ствол прекрасной пальмы снабжает людей качественным вином, а высушенные и разорванные на кусочки шелковистые листья, подобно английскому льну, служат материей для одежды. На дереве растут плоды, напоминающие по виду и по вкусу кочаны капусты. Пальма снабжает людей орехами, наполненными приятным на вкус молоком, а их скорлупа используется как миски и чаши [Gronniosaw 2000: 6]1.
В рассказ о путешествии подростка из родного города на побережье Гвинеи (Золотой Берег), где его продадут в рабство за два ярда клетчатой ткани, включены описания лесов, в которых обитают львы и другие хищные животные, прекрасных горных долин, «высоких и почти недоступных гор, испещренных золотыми прожилками», в солнечных лучах переливающихся разными цветами и «являющих собой самое прекрасное зрелище, какое только можно вообразить» (8–9).
В Северной Америке в состоянии духовного кризиса, когда Гроньосо был близок к самоубийству, он, как и его африканские предки, вся его семья, все члены племени, идет в лес, садится под огромное и прекрасное дерево (правда, функции воспетой им африканской пальмы выполняет американский дуб, «огромный, необыкновенно прекрасный дуб в гуще леса»), разговаривает с деревом как с живым, близким ему существом, молится и взывает к Богу. Здесь на не- го нисходит душевный покой. Здесь он начинает получать удовольствие от чтения трактата Р. Бакстера «Воззвание к необращенным» (17).
В «невольничьих повествованиях» XVIII–XIX вв., начиная c «Повествования» Гроньосо, воспроизводятся магическое сознание, автохтонные верования и обычаи африканцев (культ предков, культ первопредка, культ верховного божества, вера в добрых и злых духов природы), языческие обряды, которые продолжали существовать среди рабов, причудливо сочетаясь с обретенной в Новом Свете христианской религией. Среди персонажей «невольничьих повествований» часто встречается колдун, знахарь, хранитель африканской магии, использующий африканские талисманы. Африканский лес связывается с языческим культом, американский лес – с христианством.
Гроньосо первым из авторов «невольничьих повествований» ввел мотив полета, крыльев, с помощью которых можно улететь из рабства в Америке в Африку: «Сейчас, если бы у меня были крылья, как у орла, я хотел бы улететь к моей дорогой маме, чтобы сказать ей, что Господь более велик, чем солнце, луна и звезды, и что Он сотворил их» (13–14). В афроамериканском фольклоре XIX–XX вв. широко представлен сюжет о “black flight”, например сказочная история «Крылья даны всем Божьим созданиям» ( All God’s Chillen Had Wings ) 2, которая начинается словами: «Когда-то все африканцы могли летать, как птицы, но, наказанные за свои проступки, они лишились крыльев» (“Once all Africans could fly like birds; but owing to their many transgressions, their wings were taken away”) [The Norton Anthology of African American Literature 1997: 103–105].
О.Эквиано в своем двухтомном «Увлекательном повествовании о жизни Олауда Эквиано, или Густава Вазы, африканца. Написано им самим» обогащает и развивает тему прекрасной африканской природы, в гармонии с которой находятся африканская цивилизация и культура.
Географические и этнографические описания природы, климата, общественного уклада, экономики, труда, быта, одежды (вплоть до любимого африканцами по сей день лазоревого цвета, краска для которого изготавливалась из ягод), нравов, отношений в семье, отношений между мужчинами и женщинами, языка, верований, обрядов, танцев, музыки, музыкальных инструментов, песен пронизаны глубокой любовью к Африке и африканцам, носят лирический характер.
Эквиано также выделяет и подробно описывает пальмовое дерево, из которого люди добывают «восхитительно сладкий» сок, превращающийся через несколько дней в вино. Пальма снабжает людей орехами и маслом. Из пальмового масла, соединенного с растертыми в порошок кусками пахучих, душистых, благоухающих деревьев, делают духи, предмет роскоши африканцев [Equiano 2000: 53–54] 3.
«Наша земля необычайно богата и плодородна, и на ней произрастают все виды овощей в большом количестве. У нас растет много кукурузы и огромное количество хлопка и табака. Наши ананасы растут без всякого ухода, размером с большую сахарную голову, с тонким ароматом. У нас много разных специй, особенно перца, и разнообразные ароматные фрукты, которых нет в Европе, а также разнообразные смолы (gums) и очень много меда» (56). Он называет также бананы, батат, «невероятного размера», «растущие в большом количестве» (73). На этой плодородной земле, согласно О.Эквиано, живут близкие к природе, скромные в своих потребностях, трудолюбивые, не знающие нищеты, жизнерадостные, любящие музыку, пение и танцы («мы нация певцов, танцоров и музыкантов») (52), приветливые люди, и живут они в согласии с собой и природой.
Возникает образ утраченного Рая, чему способствуют и описания щедрости, изобилия, богатств природы, экзотических, с утонченными ароматами деревьев и растений, экзотических и необыкновенно вкусных фруктов, а также прекрасных и телом, и душой людей, и особенно то, что описание дается от имени невинного африканского ребенка, подростка. Но в «Повествовании» два голоса: голос ребенка, рассказывающего о стране счастливого детства, и голос зрелого человека, испытавшего ужасы рабства, много повидавшего в путешествиях по Атлантике и Арктике, Европе и Америке, много передумавшего и сохранившего любовь и привязанность к исторической родине. «Обычаи и нравы моей страны <...> были привиты мне с большой заботой и оказали глубокое воздействие на мой ум, время не может их стереть, и все превратности фортуны, которые я испытал с тех пор, способствуют интересу к ним и желанию их запечатлеть… » (46–47). Он остается им верен, например, когда сопротивляется новому имени «Густав Ваза»; и его хозяин только побоями заставил мальчика носить это чужое, европейское имя.
Пишет он и о том, как украденный из дома, после шести или семи месяцев насильственного путешествия по Африке, он впервые увидел море: «Первое, что бросилось мне в глаза, когда я оказался на побережье, было море и рабовладельческий корабль, который стоял на якоре и ожидал свой груз. Это зрелище вызвало у меня изумление, которое превратилось в ужас, когда меня доставили на корабль» (73–74).
И хотя большую часть своего пребывания в рабстве и затем на свободе Эквиано провел в морских путешествиях, плавал на торговых и военных кораблях, приобрел умения и навыки опытного моряка, много раз пересекал Атлантический океан, много повидал и испытал в Средиземном и Карибском морях, Атлантике и Арктике (борьба с морской стихией, кораблекрушения, жизнь на необитаемом острове), тем не менее самое сильное впечатление от встречи с океаном – в достигающем трагических высот описании плавания на рабовладельческом корабле (The Middle Passage) с деталями, воспроизводящими чудовищное насилие над людьми, навсегда врезавшегося в его память и генетическую память афроамериканцев и их культуры.
Во второй том О. Эквиано включил свою поэму, посвященную его обращению в христианство. В поэме описывается вся его жизнь, начиная с порабощения и путешествия на невольничьем корабле из Африки (“from my native land”, “the place that gave me birth”) в Новый Свет. Лирический герой пел, чтобы как-то облегчить свое состояние, и с горечью противопоставлял себя вечно свободным птицам (200–202).
Сопоставление с вольными птицами, поющими на свободе, будет свойственно «невольничьим повествованиям» XIX в. Ф.Дугласа, Г.Б.Брауна, Г.Джейкобс и др.
В первой половине XIX в. в США было три с половиной миллиона рабов. Начиная с 30-х гг. участились побеги рабов на Север, в Канаду. «Между 1830 и 1860 гг. по крайней мере 60 тысяч рабов обрели таким образом свободу. Подсчитано, что с 1831 по 1861 г. только через Филадельфию пробралось на Север 9 тысяч рабов» [Фостер 1955: 176]. Особенно высок был процент беглецов среди грамотных рабов. «Как пишет И.Рид в своем романе «Побег в Канаду», невольник, который был первым в чтении и письме, первым бежал из рабства» [The Slave's Narrative 1985: xxx]. Осуществив успешный побег на Север, «героические беглецы» (Б. Куорлз) становились участниками активизировавшегося аболиционистского движения 4, часто выступали на аболиционистских собраниях с устными рассказами о своей жизни в рабстве. Некоторые из них стали “self-made men”: священниками, писателями, редакторами газет, врачами, политическими деятелями. Именно эти грамотные люди стали авторами «невольничьих повествований», написанных ими самими (У.Граймз, М.Роупер, Ф.Дуглас, У.У.Браун, Дж.Пеннингтон, Г.Бибб, С.Р.Уорд, Дж.Томпсон, У.Крафт).
Между 1825 и 1860 гг. появилось бесчислен- ное количество публикаций slave narratives – жанра, который не только стал чрезвычайно действенным оружием в борьбе с рабством, но и оказал глубокое воздействие на афроамериканскую литературу и публицистику.
В «невольничьих повествованиях» XIX в. авторы, родившиеся в американском рабстве, рассказывают о жизни в рабстве и побеге на Север или в Канаду, об извечном человеческом стремлении к свободе.
Африка и ее природа не исчезли полностью со страниц slave narratives XIX в. Например, Африка в книге Ф.Дугласа «Моя жизнь в рабстве и на свободе» (1855), как и в книге О.Эквиано, ассоциируется с утраченным Раем. Дети на плантации, еще неосознавшие, что они рабы, «счастливы, как маленькие язычники под пальмами Африки» [Douglass 1855: 41].
И все-таки на смену образу Африки – утраченного Рая – в повествованиях XVIII в. в XIX в. приходит образ американского Юга как ложного рая. Таким образом-символом является цветущий сад с прекрасными фруктовыми деревьями полковника Эдварда Ллойда, сада, огороженного забором, вымазанным смолой, в книге Ф. Дугласа «Повествование о жизни американского невольника Фредерика Дугласа. Написано им самим» (1845). Конкретная ситуация – голодный раб, который польстится на фрукты из этого сада, испачкается смолой, тем самым выдаст себя и будет жестоко наказан, – превращается в образ-символ.
Прекрасная южная природа не спасает: раб Демби тщетно пытался спрятаться в ручье от наказания бичом – его хладнокровно расстрелял надсмотрщик Остин Гор.
Красочность и изобилие африканской природы как символ прекрасной исторической Родины в «невольничьих повествованиях» XIX в. сменяются изображением американского леса, болота как реальной опасности для беглеца, как почти непреодолимой преграды на пути к свободе.
Страхи рабов, собирающихся бежать, хорошо передал Ф. Дуглас: «С одной стороны, рабство, безжалостная, пугающая нас реальность. <...> С другой стороны, на неопределенном расстоянии, в мерцающем свете Полярной звезды, за крутыми холмами и снежными вершинами находилась сомнительная свобода, зовущая нас прийти и воспользоваться ее гостеприимством. Этого иногда было достаточно, чтобы заставить нас колебаться. Но когда мы представляли себе наш путь, мы приходили в ужас. Всюду мы видели неумолимую смерть, выступающую в разных обличьях. То это был голод, заставляющий нас поедать собственную плоть; то мы боролись с волнами и тонули; то нас нагоняли преследователи и ужасные овчарки разрывали нас в клочья; нас жалили скорпионы, преследовали дикие звери, кусали змеи, и, наконец, когда мы почти достигали желанной цели после того, как мы переплывали реки, сражались в лесу со свирепыми зверями, ночевали в лесу, страдали от голода и холода, нас настигали преследователи и убивали нас, сопротивляющихся, в том месте, куда мы так стремились. Эта картина ужасала нас…» [Douglass 1986: 123–124].
В большинстве «повествований» беглец скрывается в лесу, и этот лес представляет реальную угрозу быть схваченным преследователями, что часто и происходило в действительности. Во многих «невольничьих повествованиях» чаще всего только третий побег оказывался успешным.
В «повествованиях» XIX в. нет такого воспевания природы, как в «повествованиях» XVIII в. об Африке.
Концепция природы также очень отличается от романтической. В эпоху романтизма в этих текстах отсутствует романтический образ природы, на лоне которой человек чувствует себя свободным, отсутствует романтическая идиллия, ибо опыт рабства мешает романтическому слиянию с природой. В американском лесу рабов линчевали, их подстерегали преследователи с собаками, готовыми растерзать беглецов 5.
И все-таки лес изображается двойственно: и как угроза свободе, и как ненадежное, но все-таки убежище, опасная дорога к свободе.
Зато бесспорным символом свободы для беглецов как самой высшей ценности является образ Полярной звезды, родившийся в песнях рабов и занявший важное место в стихах и «невольничьих повествованиях», журналистике афроамериканских авторов.
C 1847 по 1851 г. Ф. Дуглас издавал и редактировал еженедельную газету «Норт стар» ( The North Star) , «созданную самими жертвами рабства и угнетения…» [The Life and Writings of Frederick Douglass 1950: 280]. Он же сформулировал в своем «Повествовании» дилемму, стоявшую перед рабами: безжалостная реальность рабства либо притягательная свобода «в мерцающем свете Полярной звезды».
Во всех повествованиях «школы героических беглецов» присутствует «истинный друг раба» [Brown 1847: 96], путеводная звезда, указывающая беглецам путь на Север, к свободе, «звезда свободы», ставшая главным символом свободы в прозе и поэзии беглецов.
В «Повествовании Уильяма У. Брауна, беглого невольника. Написано им самим» (1847) чита- ем: «…И каждую ночь, прежде чем выбраться из нашего укромного места, мы искали нашего друга и проводника – ПОЛЯРНУЮ ЗВЕЗДУ» [Brown 1847: 69].
Ее воспел Джосая Хенсон в своей «Автобиографии преподобного Джосаи Хенсона»: «Я знал Полярную звезду. Будь благословен Господь, сотворивший ее! Как Вифлеемская звезда, она указывала мне путь спасения. Я мог следовать за ней через леса, и реки, и поля, она должна была повести меня дорогой надежды… Я знал, что она привела тысячи моих бедных, преследуемых братьев к свободе и блаженству» [Henson 1881: 78–79].
Таким образом, тема природы соединяется в «повествованиях» XVIII в. с темой Африки – исторической Родины, корней, языческих верований, свободы. В «повествованиях» XIX в. изображение природы корректируется опытом рабства, который препятствует романтическому восприятию природы и становится средством критики рабства (использование анималистических образов для показа низведения раба до уровня животного), соединяется с темой свободы как самой главной человеческой ценности. Мотивы природы в slave narratives являются эффективным средством выражения расового, национального и культурного самосознания.
В «невольничьих повествованиях» присутствует и пространство города, пробуждающего стремление к грамотности как средству обретения свободы, ухода от статуса «невидимки», пробуждающего надежду на свободу, а после побега помогающего беглецам обрести себя в аболиционистском движении.
SPECIFICITY OF INTERPRETATION AND FUNCTIONS OF NATURE
Reader of Theory of Mass Communication Department
Chelyabinsk State University
Список литературы Специфика трактовки и функций природы в афро-американских "невольничьих повествованиях" XVIII-XIX веков
- Манн Т. Иосиф и его братья: доклад для студентов Принстонского университета/пер. с нем. Ю.Афонькина//Манн Т. Собр. соч.: в 10 т. М., 1960. Т.9. С.153-171.
- Фостер У.З. Негритянский народ в истории Америки: пер. с англ. М.: ГИХЛ, 1955. 802 с.
- Brown W.W. Narrative of William W.Brown, a Fugitive Slave. Written by Himself [Electronic resource]. Boston: Anti-Slavery Office, 1847. xi, 110 p. URL: http://docsouth.unc.edu/neh/brown47/brown47.html (дата обращения: 10.11.2010).
- Cugoano O. Narrative of the Enslavement of Ottobah Cugoano, a Native of Africa; Published by Himself in the Year 1787//The Negro's Memorial; or, Abolitionist's Catechism; by an Abolitionist [Electronic resource]. London: Hatchard & Co., 1825. P.120-127. URL: http://docsouth.unc.edu/neh/cugoano/cugoano.html (дата обращения: 20.11.2010).
- Douglass F. My Bondage and My Freedom/with an introd. by Dr. J.M.Smith. New York: Miller, Orton & Mulligan, 1855. xxxi, 468 p.
- Douglass F. Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave. Written by Himself/ed. with an introd. by H.A.Baker, Jr. New York: Viking Penguin, 1986. 159 p.
- Equiano O. The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African. Written by Himself//Slave Narratives/ed. by W.L.Andrews and H. L. Gates Jr. New York, 2000. P.35-242.
- Gronniosaw J.A.U. A Narrative of the Most Remarkable Particulars in the Life of James Albert Ukawsaw Gronniosaw, an African Prince, as Related by Himself//Ibid. P.1-34.
- Henson J. An Autobiography of the Rev. Josiah Henson ("Uncle Tom"). From 1789 to 1881/with a preface by Mrs. H.Beecher Stowe, and introductory notes by G.Sturge, S.Morley, W.Phillips, and J.G.Whittier; ed. by J.Lobb. Revised and Enlarged. London; Ontario: Schuyer, Smith, & Co., 1881. iii, 256 p. URL: http://docsouth.unc.edu/neh/henson81/menu.html (дата обращения: 10.11.2010).
- The Life and Writings of Frederick Douglass. 5 vols./ed. by Ph.S.Foner. New York: International Publishers, 1950-1975. Vol. 1: Early Years: 1817-1849. New York, 1950. 448 p.
- The Norton Anthology of African American Literature/ed. by H.L.Gates Jr. and N.Y.McKay. New York.; London: W.W.Norton & Co., 1997. xliv, 2665 p.
- The Slave's Narrative [Text]/ed. by Ch.T. Davis and H.L.Gates, Jr. Oxford; New York: Oxford University Press, 1985. xxxiv, 342 p.