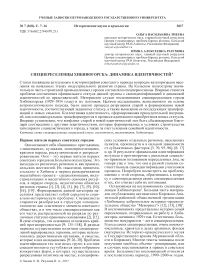Спецпереселенцы Хибиногорска: динамика идентичностей
Автор: Змеева Ольга Васильевна, Разумова Ирина Алексеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 7 (168), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальным в историографии советского периода вопросам категоризации населения на начальных этапах индустриального развития страны. На Кольском полуострове значительную часть строителей промышленных городов составляли спецпереселенцы. Впервые ставится проблема соотнесения официального статуса данной группы с самоидентификацией и динамикой идентичностей ее представителей. Материалом служат воспоминания спецпереселенцев города Хибиногорска (1929-1934 годы) и их потомков. Целями исследования, выполненного на основе антропологического подхода, были анализ процесса разрушения старой и формирования новой идентичности, соответствующей заданному статусу, а также выявление ее последующих трансформаций и новых смыслов. Коллективная идентичность, сформированная принудительной миграцией, как и индивидуальная, трансформируется в процессе адаптации и приобретения новых статусов. Впервые установлено, что конфликт старой и новой идентичностей мог быть сбалансирован благо -даря соотнесению с другими идентичностями, которые формировались в условиях строительства заполярного социалистического города, а также за счет усиления семейной идентичности.
Спецпереселенцы, социальный статус, идентичность, воспоминания, хибиногорск
Короткий адрес: https://sciup.org/14751242
IDR: 14751242 | УДК: 316.662.2:94(470.21)
Текст научной статьи Спецпереселенцы Хибиногорска: динамика идентичностей
Первые жители первых советских городов
Они называют себя «бывшими»: крестьянами, «лишенцами», кулаками, спецпереселенцами, врагами народа, раскулаченными и репрессированными. Они – это первые жители первых советских городов на Кольском полуострове. Это выходцы из различных регионов и, как правило, сельских местностей. Их «выселили, привезли, сослали» в Хибины в период разворачивания масштабного проекта – спецколонизации, индустриализации и масштабного освоения ресурсов, в первую очередь, недостаточно обжитых регионов страны [1], [3], [4], [5], [6], [7], [9], [10], [16], [19]1. Формирование данной категории населения представляет собой серьезную социально-историческую проблему. Специалисты стараются разобраться в структуре «спецкон-тингента» как «системного элемента советского общества», и в том числе спецпереселенцев как его части, распределенной на разряды по различным статусно-правовым основаниям [2], [15]. В свою очередь, эти основания отличались крайней противоречивостью [9: 135–158]. В разные периоды осуществления политики спецпересе-лений варьировались термины, которые использовались директивными органами, и смыслы, которые в них вкладывались [9: 26–30]. Проблема идентификации тех или иных групп в составе спецконтингента усугубляется многообразием конкретных форм, в которых осуществлялась репрессивная политика на местах, в специфиче-
ских условиях отдельных регионов, населенных пунктов, производств и в сильной зависимости от субъективных факторов [3: 70, 95–96], [6: 17] и др. В результате официальная идентификация вступала в противоречие с реальным социально-правовым положением переселенных лиц, не говоря уже о том, что она в разной степени соответствовала самоидентификации участников процесса. Попробуем посмотреть на проблему именно с этой стороны, обратившись к вопросу о самоопределении самих спецпереселенцев и тех, кто считает себя их потомками.
Остановимся на воспоминаниях спецпересе-ленцев Хибиногорска2. Большая часть материалов опубликована активистами Кировско-Апатитской районной общественной организации «Хибинское добровольное историко-просветительское общество “Мемориал”» [12], [13], [18]3. В воспоминаниях представлены истории семей переселенцев, отправленных на работу в Хиби-ногорск, начиная с 1929 года. Естественно, большинство мемуаристов – дети спецпереселенцев. Голоса самих спецпереселенцев, очень немногочисленные, хранятся в делах архивных фондов (материалы Историко-краеведческого музея и Государственного архива Мурманской области в Кировске). Многие тексты записаны после получения «свобод», обычно – репатриации, или в случаях восстановления в правах в советское время. Большинство воспоминаний относится к постсоветскому периоду, 1990–2000-м годам.
Они характеризуются соответствующими риторикой, структурой, оценочными суждениями. Есть материалы советского времени. Те и другие имеют как специфику, так и много общих деталей.
По мнению В. Я. Шашкова, в Мурманском округе не было «классических» закрытых спец-поселков (за исключением поселка рыбаков Дальние Зеленцы) – спецпереселенцы проживали на территориях строительства новых городов и рабочих поселков; поселения создавались по трассе дороги от железнодорожной станции до строящегося города [19: 122–123]. В мемуарах бывших жителей Хибиногорска нет упоминаний о специальных поселениях или о закрытых территориях. Упоминается о шалманах, бараках, землянках, «чистом поле», километрах. Километровые отметки были местами, предназначенными для жилья спецпереселенцев, и они, как сформулировал историк, «заложили первый камень в фундамент будущего города» [19: 109].
Разрушение идентичности
История спецпереселенца начинается с травмирующего события. Часть биографии, которая связана с жизнью до переселения, обычно не воспроизводится. Представления о жизни «до» воссоздаются по обрывочным воспоминаниям, которые в определенном смысле являются системой защиты и служат для аргументации «несправедливого выселения». Перечисление имущества «кулацкой» семьи, ценностей и памятных вещей, наличие которых вызывало зависть соседей, и всего, что впоследствии было подвергнуто разорению и перераспределению, – вот картина прошлой, спокойной и стабильной жизни: «Дом, усадьба, сад возле нашего подворья – все было ухожено, окружено деревьями: липами, черемухой, березой, яблонями. Рядом колодец. Постройки срублены из строевых бревен. Жили, как подобает настоящему деревенскому хозяину. Была изба-зимник, пятистенка, кухня, амбар, сарай, гумно. Лошадь, жеребенок, восемь овец, корова, теленок, поросенок, десять кур. В праздники приезжали гости. <…>. И ничего не предвещало грозы среди ясного неба»4 [13: 89]5.
Разделение на «своих» и «чужих» основано прежде всего на системе представлений о социальной структуре. Называя себя бывшими кулаками, членами раскулаченных семей, детьми торговцев и т. п., мемуаристы осознанно вписывают себя в структуру социальных статусов и отношений. Они знали, что их раскулачили: они получили статус спецпереселенцев. Знали, что существовали другие социальные группы, которые не подвергались принудительному выселению, – бедняки, середняки: «Председателем колхоза был избран самый ленивый в деревне <…>. Он считался бедняк»6 [13: 19]. Знали, что родители или прадеды были признаны кулаками – в местах ссылки их называли детьми кулаков. К младшим осознание приходило позже: «Я в те годы не понимал и не знал, что в те 30-е годы происходило и почему нашу семью выслали на Север <…>. Кто мы такие были по отношению к другим, живущим в нашей деревне?»7 [12: 203].
Переселенцы оказались «чужими» в формирующейся системе коллективного хозяйства и новой социальной структуры. Осознание изначальной «невписываемости» раскулаченной семьи в систему трудовых отношений не дает переселенцу разумных аргументов. Он постоянно возвращается к одному вопросу: За что? Самый распространенный ответ, который он находит для себя, – за трудолюбие. Противоречивость, абсурдность и отсутствие логики в действиях тех, от кого зависела судьба переселенцев, вероятно, являются главными основаниями формирования конфликта идентичностей. С одной стороны, родители имели определенный социальный статус, например крестьянина. Хороший крестьянин в сельском сообществе ассоциируется с тяжелой работой. Он «труженик», «работяга», своими руками строит дом, содержит хозяйство. Это хозяин дома, семьи, земли. С другой стороны, этого трудолюбивого человека (и членов его большой семьи) лишают всего, чего он достиг, построил, вырастил за всю жизнь, а у детей отнимают возможность быть наследниками результатов его труда. Произошло разрушение известной культурной модели: «Так кончилась деревенская жизнь российского крестьянства. Было разрушено не только нажитое тяжелым трудом хозяйство Кудрявцевых, но был нанесен ощутимый удар по всему деревенскому укладу жизни. Постепенно деревни начали хиреть: пашни заросли кустарником и лесом, редкие колхозы жили более-менее справно. В нашей деревне осталось пяток домов, нет в ней ни коров, ни кур, ни лошадей»8 [12: 138].
Крестьянина не просто понижают в социальном смысле, и он перестает быть крестьянином. Его лишают старого статуса и наделяют новым, который приобретает негативные характеристики, становясь клеймом как для него самого, так и для членов семьи. Новый статус не является приобретенным, он навязан системой.
Травмирующим событием становятся выселение, отъем имущества, его уничтожение, передача другим лицам или разорение. Осознание утраты старой жизни, отсутствие представлений о будущем, перспектив возвращения в родные места – все это отражалось и на идентичности детей. Они понимали, что жизнь, которая была, закончилась: «Мое детство кончилось в 9 лет»9 [13: 43]. Идентичность ребенка разрушена. Раскулачивание продемонстрировало ему социальное неравенство: детей обвинили в недостойном для новой жизни происхождении (дети торговцев, зажиточных крестьян). Процесс разрушения старой идентичности осуществлялся быстро. При всей фрагментарности детских воспоминаний в них присутствуют моменты, свидетельствующие о кризисе идентичности в типовых обстоятельствах: при отъеме имущества и выселении из дома. С этих событий каждый фрагмент жизни постоянно переоценивался. «В нашем доме был открыт детсад, в который нас не приняли. Дети бедняков (а по правде сказать, лентяев) спали в нашем доме, играли в нашем дворе, обедали за нашим столом. А мы, “кулацкие выродки”, как нас презрительно стали называть, были вынуждены жить в чулане собственного дома»10 [13: 111–112]. Непонимание «за что?» впоследствии приведет к переоценке действий властей и собственных поступков. Но при раскулачивании все происходит помимо воли участников: «нас раскулачили», «не дали…», «вывезли», «посадили на телегу», «привезли», «загнали» и т. д.
Разрушение старого быта, насильственное выдворение из родного дома, путь в открытой телеге в зимнее время («много детей замерзло…») лишают не только комфорта и свободы, но перестраивают личность, разрушают индивидуальность. Восприятие и осознание себя мучениками, жертвами репрессий начинается не столько с лишения имущества, сколько с начала пути. Прежде всего это связано с транспортом, на котором доставляли раскулаченных. До станции везли на телеге или санях, причем они, как и лошади, нередко были бывшими «своими»: «…посадили в их же сани, дали только одеться, повезли по другим деревням»11 [12: 189]. По мере продвижения их продолжали лишать имущества, оставляя почти без одежды: «Везли до железной дороги на наших же лошадях <…>. Многое из взятых вещей у людей отобрали уже на станции. Из всего нашего имущества у нас осталось только то, что было на себе»12 [13: 59]. Образом крайней формы обезличивания, символом завершения прошлой жизни становится «телячий вагон». Иногда его называют «товарным» или «столыпинским», но чаще всего – «телячьим». Поездка в таком вагоне рассматривается как нечеловеческая: «И в этих вагонах для перевозки скота разместили людей, которые долгое время держали первенство во всесоюзном соцсоревновании рыбаков-колхозников всей страны! Так, сидя на своих узлах, поехали заслуженные люди в неизвестность»13 [13: 134]. Не только путь в неизвестность, но условия жизни в пути, который мог длиться неделями, обрушились на вчера еще благополучных людей. «Телячий» вагон для спецпереселенцев означает окончательное уничтожение не только прежнего статуса, но и нормального существования. Именно в этом вагоне они обретают черты новой идентичности. Отсутствие интимности, разделение семей, скученность, унижение при отправлении естественных потребностей, обращение как с животными. Является благом, когда добрые конвоиры выпускают людей на остановках. Появляется тюремная лексика – «параша», «нары». Поездка в «телячьем» вагоне в тюремных условиях – ключевой мотив повествования о переселении. Именно в пути начинает формироваться представление о жертвенности, происходит переоценка действий семьи и впервые возникает вопрос: «За что?» Вагон становится местом фор- мирования коллективной идентичности: «мы – жертвы режима», «мы – мученики».
«Мы – спецпереселенцы»
Поездка в вагоне на определенное время становится для ссыльных дорогой к смерти. Известно, что многие умирали в пути (мороз, болезни, расстрел при побеге и пр.), об этом свидетельствуют многие мемуаристы [12: 91, 201, 209], [13: 23, 30, 46, 48, 67, 106], [18: 97]. Неизвестность, отсутствие перспектив, многочисленные смерти и страдания доводили до отчаяния. Были известны социалистические стройки с особо тяжелыми условиями, где трудились заключенные, а ссыльные гибли тысячами. Соображения о том, что их везут умирать, иногда до прибытия на место оказывались преувеличенными, появлялась надежда. Так, проезжая станцию Званка (Волховстрой), раскулаченные услышали, что кто-то определил направление: поезд движется «на Мурман»: «Это как-то взбодрило людей: Мурман – не самое гиблое место, там можно жить»14 [12: 134].
На новом месте прибывшие оказывались наделенными новым статусом и новым повседневным обращением. По приезде в Хибиногорск они узнавали, что теперь являются «переселенцами» (официально – спецпереселенцами): «Так мы стали называться переселенцами, в отличие от приехавших сюда вольных людей. Между этими «сословиями» долго чувствовалась разница»15 [12: 137]. Новая жизнь дана, они ее не выбирали. С получением нового статуса, лишением прав и возможности покидать населенный пункт или место строительства происходило окончательное принятие роли жертвы режима (и жертва подчинялась, за исключением беглых, которых ловили, или они умирали), формировалась новая идентичность «переселенца».
Социальному переструктурированию и статусно-ролевым изменениям подверглось все население страны. Формальный статус спецпе-реселенца определял место его носителя в системе социальных отношений. Он дополнялся синонимичными обозначениями, усложнявшими социальную структуру. Дети спецпереселенцев вспоминают распространенные оскорбительные обращения и высказывания в свой адрес: «дети кулаков», «дети врагов народа», «лишенцы», «изгои». Вместе с тем многие мемуаристы, будучи детьми, не испытали особого к себе отношения со стороны вольных хибиногорцев. Они отметили, что ни в школе, ни в компании сверстников «различий не делалось», «мы все были вместе» и т. п. Некоторые называют себя просто переселенцами, утверждая, что приставка «спец» не использовалась ни ими самими, ни местными. По существу, все приехавшие на стройку в Хибиногорск являлись переселенцами, на этой территории не было постоянного, коренного населения за исключением кочующих саамов. Это предоставляло возможность включения себя, спецпереселенца, в новую общность – хибиногорских переселенцев.
Важным элементом в процессе идентификации является представление о свободе и восприятие себя в этой системе. Жители Хибиногорска были разделены на вольных и невольных – спец-переселенцев. Ограничение свободы передвижения и невозможность покинуть город, лишение избирательных прав – основные характеристики несвободы. Им сопутствуют условия труда («с нами не церемонились»), оплаты (финансовые вычеты, недоплаты) и жизни (землянки, бараки). В этих обстоятельствах формируется чувство принадлежности к социально стигматизированной общности, включающей не одно поколение. Значительная часть мемуаристов, которые были переселены детьми, утверждают, что по мере взросления они не переставали ощущать негативное к себе отношение, чувствовали себя неуютно во «внешней» социальной среде: «…когда окончили седьмой класс, нам, молодежи, разрешили выехать на учебу, но только не в режимные города. В наших паспортах-листочках была какая-то статья, не помню, какая именно. В комсомол нас не принимали, все нас презирали, и мы постепенно все возвращались на свою вторую родину, в кулацкие села. <…>. В первый год (войны. – О. З., И. Р. ) наших мужчин не брали в армию»16 [13: 43]. «Мы» и «наши» очерчивают границы общности с «вольным» миром. В то же время спецпереселенцы отделяют себя от заключенных («лагерников»), четко понимая свой особый статус.
Представления о старой системе статусных отношений, исполнение роли крестьянина-труженика, хозяина и отца семейства, принудительно оборванное внешними силами, трансформируются в новых обстоятельствах. Идентичность «мы – спецпереселенцы» формируется на основе противоречия между представлением о себе как о мучениках, страдальцах режима и жертвах (репрессий, человеческой зависти, глупости, злости, ненависти, ксенофобии), с одной стороны, и переменой, переоценкой качества жизни до и после выселения, с другой стороны. Мемуаристы утверждают, что новая земля их «приютила», «обогрела», здесь они испытали чувство солидарности с себе подобными – в масштабах многонациональной страны: «Вокруг жили и работали русские и украинцы, латыши, поляки, финны, эстонцы. Спецпереселенцы были и из Псковской, Тюменской, Челябинской областей»17 [13: 63]. Создается впечатление, что в новых бытовых условиях возвращается старая общинная и семейная идиллия: «Жили мы в палатках, бараках без удобств. Но как жили! Как одна семья! Пусть мы все были не совсем сытые, не совсем обутые и плохо одетые. Вечерами родители выходили на улицу и пели, плясали, шутили и смеялись. Люди жили дружно, выручали друг друга. Родители наши друг с другом были добрыми, по праздникам пекли пироги, куличи, угощали соседей, мы во всем помогали родителям»18 [13: 121]; «Все знали про всех все, но завидовать было некому»19
[13: 107]. Многие отмечают отсутствие воровства и пьянства.
В конечном счете спецпереселенцы обрели новый дом, хотя и скучали по утраченной родине: «Для меня Хибиногорск – вторая родина, и, несмотря ни на что, я храню о нем самые теплые воспоминания»20 [18: 228].
«Мы – горожане», «мы – строители»
Коллективная идентичность, сформированная принудительной миграцией, как и индивидуальная, трансформируется в процессе адаптации и приобретения новых статусов. Мигрант вынужден отказаться от каких-то свойств, способностей, которые ему были необходимы до переселения, и усилить те качества, которые помогли бы освоиться в новых обстоятельствах. Спецпе-реселенцы сохранили качества, благодаря которым и были зачислены в категорию «кулаков»: трудолюбие, выносливость, работоспособность. Именно эти характеристики стали их капиталом для строительства новой жизни.
Изменение положения спецпереселенцев, оказавшихся на строительстве «гиганта в Хибинах», в большинстве случаев было связано со сменой социального пространства и статуса поселения. Выходцы из сельских местностей, в Хибиногор-ске они стали городскими жителями. В воспоминаниях о прибытии в Хибины много места отводится условиям размещения: «жили в палатках», «землянках», в отдельных случаях «привезли в поле», «бросили выживать». Основные бытовые трудности были связаны с отсутствием постоянного просторного жилья, антисанитарией [11], [14], тяжелыми условиями труда. Спецпере-селенцы были маргинальной группой на индустриальной стройке. Оставаясь деревенскими, они постепенно подстраивались под жизнь горожанина. Формирование идентичности «мы – горожане» связано с возможностями строительства нового города («днем работали, вечером строили себе дома»). В итоге они считают себя (и считаются многими) строителями города. Поскольку спецконтингент в Хибиногорске превышал количество вольных людей [19: 143], многие утверждают, что руками спецпереселенцев созданы основные, крупные объекты: «Строились эти дома большей частью нами, переселенцами <…> провели дороги, построили город, добывали апатит, перерабатывали его на выстроенной нами обогатительной фабрике, боролись со снежными заносами, и все это было сделано больше руками кулаков»21 [13: 37]; «Вообще весь Хибиногорский (Кировский) район освоен и отстроен руками спецпереселенцев»22 [13: 26–27]. Массовое использование ручного труда в 1930-е гг., трудолюбие и выносливость бывших крестьян, по мнению мемуаристов, обеспечили ударное строительство города23. Отсюда возмущение по поводу неравного вклада вольных и невольных (спецпе-реселенцев, а не заключенных). Вольные, позднее прибывавшие на строительство, как утверждают спецпереселенцы, приехали «на все готовое», они не вполне могут претендовать на звание строителей городов. Речь при этом идет только о строительстве периода Хибиногорска: самого города, гражданских и промышленных объектов вокруг него. Хибиногорск сменил имя в декабре 1934 года (после смерти С. М. Кирова). Как известно, номинация «спецпереселенец» была актуальна тоже до 1934 года (позже, в 1934–1944 годах, высланных называли трудопоселенцами, а с 1944 года – спецпоселенцами [5: 18]; [9: 14, 17–18]). Переименование города совпало с изменением официального статуса тех, которые начали его строить. Их воспоминания отнюдь не заканчиваются 1934 годом, но в текстах почти нет иных наименований группы, чем «спецпересе-ленцы» или «поселенцы». Таким образом, статус и идентичность «спецпереселенца» совпадают по времени их закрепления с легитимным статусом горожанина-хибиногорца. Идентичность «мы – горожане» соотносится с идентичностями «мы – строители города» и «мы – хибиногорцы».
Идентичность «мы – горожане» связана не только с активным вовлечением спецпересе-ленцев в градостроительство. Особая роль в ее формировании отводилась детям. Соответствующая политика была направлена на «правовой» раскол поколений [9: 144]. Дети, которые имели спецпереселенческий статус в силу происхождения, в новом городе становились учащимися, студентами, специалистами. Социализируясь в Хибиногорске-Кировске, получая образование и карьерные перспективы, они пересматривали результаты принудительной миграции семьи: «Поколение детей тогдашних крестьян уже отворотили от земли. Я знал ребят, окончивших ГХТ24, которые говорили: “Хорошо, что отцов сослали, а то бы крутить нам хвосты быкам всю жизнь”»25 [18: 225]; «Не забыть до сих пор все произошедшее с нами, но обо всем этом не было сожаления. Такое единогласное мнение было высказано старшими из семьи при встрече, когда они были еще живы. Пережив все невзгоды, семья начала жить новой городской, рабочей жизнью. Подрастающее поколение стало получать высшее образование»26 [12: 139].
Мечтать о возвращении на родину, уже получив городское жилье, продолжали родители. Дети же, адаптированные к городской среде, были ориентированы на получение специальности, социальное продвижение. У многих улучшались бытовые условия уже по истечении нескольких месяцев пребывания в Заполярье, причем изменения были качественными: шалман (палатка, землянка) → щитовой барак → комната в каменном доме → отдельная квартира. Кризис идентичности, с которым сталкивался спецпереселенец, лишаясь имущества и родины в процессе принудительного переселения, постепенно преодолевался, осуществлялись поиск новой идентичности и затем ее выстраивание. Формирование идентичности «строителя города»
для одних служило оправданием системы принудительного расселения, для других было ответом на главный вопрос: «За что?» – За то, что «мы были трудягами». Обладание качествами «честного труженика» и навыками «домостроителя», обретенными на родине, в крестьянской семье, стало основой для их развития и применения в другой области – на строительстве целого города: «Город Хибиногорск – это монументальный памятник труженикам-крестьянам, разоренным и свезенным в суровый Хибинский край с разных краев России. Главная рабочая сила в этой стройке была именно их, переселенцев. Крепкие мозолистые руки трудолюбивых крестьян умели держать и лопату, и лом, топор, кирку и другой строительный инструмент»27 [12: 139].
Конфликт и баланс идентичностей: «бывшие спецпереселенцы»
Даже высокий статус «строитель города» не избавляет спецпереселенца от конфликта идентичностей прошлого и настоящего. Адаптации мешает прежде всего осознание невозможности добровольно возвратиться на родину, встретиться с родными. Конфликт заключается в том, что личность отказывается признать законность раскулачивания, лишения прав, пребывания под контролем и в то же время не может исправить ситуацию. Об этом свидетельствуют истории о безуспешных попытках восстановиться в правах, безответных письмах «наверх» и т. п. Представители власти не использовали так называемый природный уравнитель. В отношении спецпереселенцев не учитывались сложные климатические условия, в которых они работали. Им не назначались северные надбавки, более того, зарплата урезалась. Их не касались льготы, которые имели в Заполярье вольнонаемные: «…полярные им платили, отпуска больше, путевки в дома отдыха и санатории, а нам отпуск 12 дней без выезда. За регистрацию брака с нас брали 15 рублей, а с вольнонаемных 3 руб. А за что такое наказание?»28 [13: 45]. Экономическая дискриминация человека, потерявшего все и не имеющего права заработать снова, обостряла внутриличностный конфликт.
Что исправляло ситуацию и позволяло преодолеть противоречия? Как признаются сами спецпереселенцы, чувство взаимной поддержки и защищенности давала семья. При высылке отдельных членов семьи часто принималось решение переезжать вместе. В других случаях семья при первой возможности восстанавливалась. Было и так, что вольные члены семьи переезжали к родственникам-спецпереселенцам. В иерархии идентичностей спецпереселенца самой важной является идентификация с семьей. Идентичность «мы – семья» стала спасением. В ситуации, когда человек предан властью, нередко соседями, односельчанами, друзьями, доверие сохраняется только внутри родственной группы. Семья как «первичная группа» остается основным элементом стабильного мира. Тем более если она патриархальная, какими и были крестьянские семьи. Ощущение принадлежности к ней соотносится с представлением о безопасности или более легком преодолении трудностей. Усиление идентификации с семьей способствует поддержанию семейной памяти. В свою очередь, семейная биография, память позволяют сбалансировать конфликтующие идентичности: позитивные («мы – горожане», «мы – строители») и негативные («высланные», «лишенцы», «невольные»).
«Жизнь брала свое» – одно из типовых утверждений мемуаристов в рассказах о жизни в Хибиногорске. Привыкание к месту, новому положению, социальной среде осуществлялось через семейный и коллективный «спецпоселен-ческий» быт и вместе со строительством города: «Воду брали из реки Большая Белая. Надо было видеть ее первозданную красоту <…>. У реки же стирали белье, нагревая воду на костре. Готовили еду чуть невдалеке от палаток (в сопках) на кострах и даже пекли пирожки с поспевавшей черникой <…>. В палатках жило много молодежи, и жизнь брала свое: звучала гармонь и другие музыкальные инструменты, слышались песни и частушки <…>. Помимо палаточного городка достраивалась Хибиногорская улица деревянными рублеными домами, за нею Вудъяврский переулок, где возводились щитовые бараки»29 [12: 136–137].
По мере адаптации к заданным обстоятельствам происходило переформирование жизненных проектов, в первую очередь молодежи. Оно соотносилось с изменением принципов идентификации, которая осуществлялась уже не по факту происхождения, а в зависимости от возможностей социального продвижения. «Строители», «горожане», «ударники труда», «северяне» – идентичности, которые позволяли преодолеть социальную стигму, сбалансировать социальное самочувствие.
Различные, в том числе конфликтующие, идентичности под влиянием динамики внешних социально-политических факторов и в зависимости от реальных жизненных траекторий членов общностей могут объединяться или подавлять друг друга. В итоге формируются различные социальные типы. Одни на всю жизнь сохраняют идентичность спецпереселенца – маргинала. Приняв соответствующую статусу роль жертвы, в изменившихся социально-политических условиях они продолжают привычно ее исполнять, демонстрировать («всю жизнь прожили с клей- мом»), объяснять свои жизненные неустройства тем, что «опять нас притесняют». Над другими перестает довлеть навязанный статус. Он преодолевается иными социальными маркерами, которые оправдывают его и возвышают над ним. При этом не встретилось ни одного случая, когда бы статус спецпереселенца воспринимался в качестве формального, не повлиявшего на идентичность личности. Значения идентификатора «спецпереселенец» во многом определяются наличием, сроками и обстоятельствами официальной, подтвержденной документом, реабилитации (далеко не у всех мемуаристов она имеется). Однако о полном соответствии речи быть не может. Судя по текстам, часто от роли жертвы не могут отказаться именно те, кто раньше других был восстановлен в правах и, по объективным показателям, вполне реализовался в дальнейшей жизни.
Переоценка статуса спецпереселенца происходила по мере восстановления в правах (индивидуально) и развития реабилитационного процесса в целом. Когда перестала существовать официальная социальная категория, у всех причастных к ней появилась возможность сказать: «мы – бывшие спецпереселенцы». Общность становилась символической, объединяющей тех, которые были высланы в начале 1930-х, с их потомками. «Дети (внуки) спецпереселенцев» – значительная и особая категория этой общности. Их идентичность поддерживается потребностью сохранить память о собственных предках. Им, имеющим более высокий уровень образования и литературные навыки, принадлежит основная часть мемуаров о жизни спецпереселенцев. Социально-исторический маркер «бывшие спец-переселенцы» соответствует идентичностям «мы – хибиногорцы», «мы – северяне» (что в числе прочего означает и «покорители Севера», и «ссыльные»), «мы – честные труженики». Если в «дореабилитационный» период другие идентичности способствовали уравниванию социальных маргиналов с вольными людьми, то после смены идеологической парадигмы, напротив, статус «бывших спецпереселенцев» предоставил известные бонусы. Он определяет принадлежность к общности исторически значимой, жертвенной, героической, высоконравственной и т. д. Идентичности «мы – бывшие спецпересе-ленцы» и «выходцы из спецпереселенцев» демонстрируют невозможность отказаться от статуса, который, казалось бы, стал сугубо исторической реалией.
* Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ по проекту № 16-11-51002 «а(р)» «Осмысление опыта советской урбанизации арктической территории в мемуарно-биографических источниках: социально-антропологический ракурс».
SPECIAL SETTLERS OF HIBINOGORSK: DYNAMICS OF IDENTITIES
Список литературы Спецпереселенцы Хибиногорска: динамика идентичностей
- Бердинских В.Н. Спецпоселенцы: Политическая ссылка народов Советской России. М.: Новое литературное обозрение, 2005. 768 с.
- Вавулинская Л.И. Спецпереселенцы -маргиналы в социальной структуре советского общества (на материалах Карелии послевоенного десятилетия)//Труды Карельского научного центра РАН. 2011. № 6. С. 106-113.
- Вавулинская Л.И. Спецпереселенцы и иностранные военнопленные в Карелии в середине 1940-х -середине 1950-х гг. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. 337 с.
- Виола Л. Крестьянский ГУЛАГ: мир сталинских спецпоселений. М.: РОССПЭН, 2010. 335 с.
- Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930-1960. М.: Наука, 2005. 306 с.
- Игнатова Н.М. Спецпереселенцы в Республике Коми в 1930-50-е гг. Сыктывкар: ИЯЛИ УрО РАН, 2009. 192 с.
- История сталинского ГУЛАГА. Конец 1920-х -первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7 томах. Т. 5. Спецпереселенцы в СССР/Отв. ред. и сост. Т.В. Царевская-Дякина. М.: Изд-во РОССПЭН, 2004. 824 с.
- Ким М.Ю. Социально-бытовые условия спецпереселенцев в Карагандинском угольном бассейне в 1930-е гг.//Вестник Томского государственного университета. История. 2014. № 3 (29). С. 55-62.
- Красильников С.А. Серп и Молох. Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е годы. М.: Изд-во РОССПЭН, 2003. 344 с.
- Красильников С.А., Саламатова М.С., Ушакова С.Н. Корни или щепки: крестьянская семья на спецпоселении в Западной Сибири в 1930-х -начале 1950-х гг. М.: Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» РОССПЭН, 2010. 326 с.
- Куруч О.Е. Быт и повседневная жизнь первых строителей г. Хибиногорска (1930-1932 гг.)//Хибиногорск. Память сердца. Апатиты: ООО «Апатит-Медиа», 2012. С. 52-59.
- Память неподвластна времени/Сост. И.Я. Хищенко, А.А. Барсамов; Кировско-Апатитская районная общественная организация «Хибинское добровольное историко-просветительское общество «Мемориал»». Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2015. 227 с.
- Спецпереселенцы в Хибинах: Спецпереселенцы и заключенные в истории освоения Хибин (книга воспоминаний). Апатиты: Хибинское общество «Мемориал», 1997. 222 с.
- Сулейманова О.А. Материально-бытовые аспекты повседневной жизни жителей Хибиногорска 1930-х гг.//Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2015. № 3 (44). С. 489-492.
- Суслов А.Б. Системный элемент советского общества конца 20-х -начала 50-х годов: спецконтингент//Вопросы истории. 2004. № 3. С. 125-134.
- Упадышев Н.В. ГУЛАГ на Европейском Севере России: генезис, эволюция, распад. Архангельск: Поморский университет, 2007. 324 с.
- Упадышев Н.В. Спецпоселенцы в Северном крае: концептуальное видение проблемы. Часть 2: Кулацкие семьи в спецпоселках//Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2006. № 1. С. 14-23.
- Хибиногорск. Память сердца. Апатиты: ООО «Апатит-Медиа», 2012. 360 с.
- Шашков В.Я. Спецпереселенцы в истории Мурманской области. Мурманск: Максимум, 2004. 320 с.