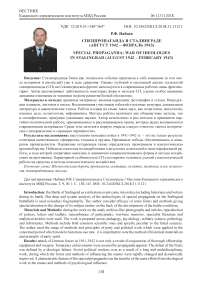Спецпропаганда в Сталинграде (август 1942 - февраль 1943)
Автор: Набиев Рустам Фанисович
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 1 (31), 2018 года.
Бесплатный доступ
Введение: Сталинградская битва как эпохальное событие привлекла к себе внимание (в том числе историков и писателей) уже в ходе сражения. Однако глубокий и системный анализ технологий спецпропаганды (СП) на Сталинградском фронте используется в современных работах лишь фрагментарно. Автор рассматривает действенность некоторых форм и методов СП, уделяя особое внимание динамике изменения ее тематики на фоне развития боевой обстановки. Материалы и методы: архивные материалы: военная периодика: фотографии и статьи. Репродукции плакатов, листовок и писем. Воспоминания участников событий и военные мемуары, специальная литература и аналитические статьи. Работа создана на стыке таких наук, как педагогика, психология, военное дело, политология, информатика. Методы работы включают как общенаучные методы, так и специфические, присущие указанным наукам. Автор использовал и ряд методов и принципов партийно-политической работы, применявшихся в рассматриваемое время, которые редко вспоминаются современными историками. Среди этих методов в первую очередь следует отметить «метод исторического материализма» и «принцип партийности». Результаты исследования: наступления немецких войск в 1941-1942 гг. - это не только результат сочетания качественного офицерства, техники и оружия. Временные победы обеспечивались и аппаратом пропагандистов. Поражение гитлеровцев также определялось проигрышем в идеологическом противоборстве. Победили советские политработники в результате длительной и многопрофильной работы, в ходе которой оперативно менялись и динамично совершенствовались формы и методы воздействия на противника. Характерной особенностью СП стал перенос основных усилий с идеологической работы на средства и методы психологического воздействия.
Идеологическая борьба, пропаганда, агитация, солдаты, листовки, плен, психология, политработники, письма
Короткий адрес: https://sciup.org/142211833
IDR: 142211833 | УДК: 32.019.51+340"364" | DOI: 10.24420/KUI.2018.31.11121
Текст научной статьи Спецпропаганда в Сталинграде (август 1942 - февраль 1943)
В основе национал-социалистической подготовки немецкого солдата лежал тезис о превосходстве германской нации и армии. Причем это направление было одним из наиболее традиционных и древних в Германии. Так, еще до объединения Германии (в 1838 г.) патриотами был инициирован общегерманский проект установки памятника Арминию, победившему римские легионы. Проект стал одним из ряда инициатив, сплотивших различные слои немецкого общества: повсюду создавались общества помощи возведению памятника. Идея воинской доблести германцев стала одной из главных основ стремления немцев к объединению. Величественный проект был завершен уже в едином государстве кайзером Вильгельмом I в 1875 г. Германия возродилась как воплощение устремлений прусского милитаризма.
Военные успехи прусской армии в значительной степени зависели от тех идей, которые сплачивали бойцов вокруг лидеров, укрепляли моральный дух, настраивали на победу. Это были давние воинские традиции тевтонов, дух товарищества (Kameradschaft), боевого братства (Kampfbruderschaft), уверенность в своих командирах, превосходстве над врагом.
Широкую известность приобрела фраза, которую молва приписала Отто фон Бисмарку, о том, что исход войны определяется сельским (прусским) учителем, который воспитывает будущих солдат-победителей.
Не следует забывать и то, что в Первой мировой войне германские войска не были разгромлены и не сдавались массово врагу добровольно. Поэтому пропаганда реваншизма имела большой успех среди патриотически настроенной части немцев.
Эклектическая смесь элементов религиозного, нацистского воспитания и воинских традиций была успешной в условиях военных побед, но в Сталинграде иллюзия о превосходстве немецкой нации, солдата и оружия была развеяна, и важная заслуга в этом принадлежит продуманной и целенаправленной работе политработников.
В ходе противостояния двух огромных армий в Сталинградской битве спецпропаганда, адресованная солдатам противника, довольно быстро меняла направленность, формы, методы работы и средства воздействия. Примечательно, что эти изменения примерно соответствуют этапам Сталинградской битвы, выделенным советскими военными историками, и этапам, определенным для ППР в целом [5]. Таким образом, периодизация пропагандистского противостояния может подразделяться на следующие этапы:
-
1) успешное наступление германской армии (июль-август);
-
2) замедляющееся продвижение 6-й полевой армии в черте города и нарастание сопротивления бойцов 62-й общевойсковой армии (сентябрь – 19 ноября);
-
3) окружение и разгром армии Паулюса в Сталинградском котле (19.11.1942 – 2.02.1943).
Значимость выявления закономерностей развития ППР в Сталинграде примечательна тем, что примерно по той же схеме можно оценивать развитие ППР в течение всей Великой Отечественной войны (этап обороны, равновесия, этап наступления).
Результаты исследования
Первый этап (июль-август). Исходя из многочисленных свидетельств участников событий, на начальном этапе Сталинградской битвы противостояния пропагандистских систем практически не было. Немецкие войска стремительно наступали, обгоняя отходящие советские части, и пробивались через подходящие к ним подкрепления, которые не успевали занять оборонительные рубежи. Советская спецпропаганда поначалу работала по устаревшим идеологическим шаблонам. Седьмой отдел Главного политического управления РККА (Рабоче-крестьянской красной армии) явно недостаточно привлекал немецких коммунистов, газета «Die Warheit» («Правда») не пользовалась популярностью у солдат вермахта, они не доверяли советской информации [1].
Закаленный в боях солдат вермахта давно прошел «порог чувствительности», характерный для цивильного человека, верил в «гений фюрера», превосходство германской расы и армии по отношению к недочеловекам (der Untermensch). Почти все они были воспитаны в среде гитлерюгенда, несмотря на формальное внепартийное положение, в армии значительна была прослойка членов NSDАP (Национал-социалистическая рабочая партия Германии) [1].
По мнению командного состава, советская пропагандистская машина в условиях германского наступления работала вхолостую. Исходя из текущих результатов противостояния, это действительно было так. Немцы не сдавались добровольно в плен, а попав, не теряли веры в победу. Однако здесь следует учитывать два важных аспекта: 1) пропагандистская работа, ориентированная на противника, в принципе не рассчитана на немедленный результат; 2) немецкий солдат был невосприимчив к нашему стилю пропаганды.
Из допросов пленных и донесений с передовой следовало, что традиционные «лозунги» коммунистической СП не воспринимались огрубевшей в походах солдатской средой [2]. К тому же советские военные политработники обычно не учитывали, что лидеры NSDАP до прихода к власти широко использовали социалистические лозунги, а затем девальвировали их. В 1942 году для многих немцев социалистические идеи были уже «вчерашним днем», «отработанным материалом». Лозунги типа «Рот фронт» или «Левый марш» Бертольда Брехта были для них пустым звуком.
Это обусловлено тем, что основная масса солдат обладала профессионально деформированной психикой и мировоззрением. Иллюстрацией того, с какой средой приходилось работать пропагандистам, может служить следующий пример: сотрудники советских похоронных команд сообщали, что почти у всех убитых немецких солдат в карманах были фотографии с убийствами и издевательствами над людьми. Статус «сверхчеловека» поддерживался на всей территории Райха, и молодежь давно привыкла к тому, что встречный обыватель стягивал шляпу за 100 м, увидев немецкого солдата [3]. К тому же в ходе триумфального победоносного наступления любой здоровый и успешный солдат в принципе не склонен выслушивать морализм побеждаемых [1].
Он (солдат вермахта) живет в особой среде боевых товарищей со своими корпоративными нормами поведения вне гражданского и международного права. Бытовые условия ему были созданы весьма неплохие (в целом лучше, чем у советского младшего офицера). Тем более, накануне вторжения в СССР они были освобождены Гитлером от условностей права и морали. Немецкий солдат с каждой победой убеждался в превосходстве над «низшей расой» и был совершенно равнодушен к традиционным для советских политработников идеям классовой борьбы, пролетарского интернационализма, строительства коммунизма. К тому же уже 23.08.1942 передовыми танковыми частями был достигнут желаемый рубеж (Волга), который считался реальным рубежом победы в войне.
В августе 1942 года «Фелкишер беобахтер» (Völkischer Beobachter) разместила футуристическую статью о жизни немецкого помещика, бывше- го солдата, который в 50-х годах якобы отдыхал в своем фольварке на берегу Волги, попивая кофе в лучах заката и вспоминая былые подвиги. Подобные настроения не были единичными, что и отмечают исследователи [4].
Из бесед с немецкими военнопленными советские специалисты с удивлением узнали, что солдаты вермахта не подвергались специальной политической муштровке. Они были поражены слабостью и несистемностью убеждений немцев [1; 5]. Получалось, что хаотически сложившееся мировоззрение солдата базировалось преимущественно на временных военных успехах вермахта и армейских традициях.
Отметим еще один фактор, который был упущен из сферы внимания специалистов в советское время. Наши фронтовики не раз отмечали пьяные атаки немцев, которые бесстрашно шли даже в штыковую (дело в том, что русская штыковая атака при равных условиях обычно заканчивалась трагически для противника, а значительная часть погибших в рукопашной схватке не имела смертельных ранений – причиной их гибели был шок). Разгадку смелости немцев раскрыли уже в наше время: при порицании употребления спиртного фронтовиков активно снабжали наркотиками типа pervitin [6].
В ходе непрерывных боевых действий в условиях отступления и господства люфтваффе в небе нашим пропагандистам, разумеется, не удавалось организовать занятия и беседы с солдатами противника, в ходе которых они могли бы подробно разбирать ложные посылы фашистской идеологии. Таким образом, советская СП на этапе отступления постепенно отказывалась от идеологического противоборства, к которому готовились политработники до войны.
В числе действенных положений советской СП оказались не коммунистические лозунги и призывы к «пролетарскому интернационализму», а «практические» опасения, которые живут у каждого солдата, рискующего жизнью вдали от дома.
Главными аргументами для немецких солдат и офицеров стали исторические примеры и очевидные обстоятельства:
-
1. Ни одно войско за тысячелетия никогда не побеждало эту страну извне.
-
2. Все военные авторитеты Германии (О. Бисмарк, К. Клаузевиц и др.) высказывались против войны с Россией.
-
2. С каждым новым военным успехом коммуникации вермахта растягиваются (а значит, растет и уязвимость), сопротивление советских войск растет, а зима приближается, и ее приход Гитлер не может отменить.
-
3. Ресурсы СССР огромны, и немцам предстоит встретиться со свежими дивизиями, которые идут из глубины страны [1; 7; 8].
-
4. Страх перед смертью и увечьем вследствие ранения. На немецком «Восточном фронте» высока была вероятность погибнуть и невозможно было избежать ранения или контузии. С каждым новым днем сопротивление РККА росло, росли и потери, а следовательно, и статистическая вероятность ранения любого бойца [9]. Этот страх накапливался, но еще не набрал «критической массы» на первом этапе.
-
5. «Союзники открывают второй фронт». Катастрофичность этого события была очевидна не только офицерам, но и солдатам. Оно делало бесполезными любые частные победы. Пусть союзники пока еще воевали в Африке, но все же этот второй фронт оттягивал часть сил «стран оси». Усиливавшиеся бомбардировки немецких городов англо-американской авиацией использовались СП как фактор неизбежного возмездия [1].
Второй этап характеризуется резким снижением темпа наступления 6 ПА. Пропагандисты с обеих сторон могли теперь использовать весь имеющийся технический и методический арсенал. В большей степени немецкая спецобработка проявлялась в моменты наступлений.
В то же время нарастало влияние советской СП. Особенно – на фланговых участках, где фронт удерживали союзники – румыны, итальянцы, венгры... Их обеспечение и вооружение было хуже, поэтому они легче принимали довод о том, что единственный надежный способ не погибнуть за чужие интересы и вернуться домой – это сдаться в плен.
Основные направления советской СП оставались теми же, что и на первом этапе, но возросла оснащенность и уверенность в победе, усиливалось давление на психику немецкого солдата. При сопоставлении печатных изданий с обеих сторон обращает на себя внимание то, что советские плакатные образы часто были своеобразным ответом на сюжеты из гитлеровских листовок. И часто очень удачно.
Приближалась зима, к которой германские войска опять оказались не готовы, а советский народ ожидал с нарастающей надеждой.
Увеличилось количество тревожных писем из Германии, где сообщалось об ухудшающихся условиях жизни цивильных немцев [10; 11; 12], ужасающих бомбардировках немецких городов, которые оказывали подавляющее моральное воздействие на население и через них – на солдат [13]. Солдаты из частей, которые направлялись из европейских армий на Восточный фронт, писали домой прощальные письма. «Война» на Западе была совсем иной –
«цивилизованной». Служба там часто считалась отдыхом после Восточного фронта.
Победы войск стран «Оси» на других фронтах сменились поражениями. И каждое из них демонстрировало движение совсем не к тому итогу войны, которое обещали А. Гитлер и Й. Геббельс. Анализируя материалы допросов пленных, И. Сталин отмечал, что немцы могут терпеть лишения, но боятся повторения версальского мира [13]. В это слабое место и целила советская политическая пропаганда.
Все более успешной становилась работа, направленная на стимуляцию страха перед смертью и увечьем вследствие ранения [1; 7].
Статистику потерь видел воочию каждый солдат, и на это была направлена наша СП: «Ты будешь убит или станешь инвалидом, а твоя жена гуляет в тылу со снабженцами или офицерами СС». На фоне известной половой свободы немецких женщин и особых законов по сохранению чистоты расы этот посыл был весьма действенен. Активно эксплуатировалась любовь к детям и близким, которые не дождутся своих отцов и сыновей с Восточного фронта. Позже выяснилась чрезвычайная действенность листовки «Рapi ist Tot!».
Интересные сведения по медицинской статистике вермахта были оценены авторами лишь недавно. Они приобретают совершенно новое качество при их оценке через призму действенности вышерассмотренного направления СП.
Отмечается, в частности: «Если в 1941 году немецкий раненый в среднем занимал койко-место 17,7 дней, то теперь [осень 1942 г. – Р.Н.] – 24,97 дня...» [14]. Эти цифры, по нашему мнению, свидетельствуют о том, что в 1941 году немецкий солдат верил в победу и стремился воевать, а осенью 1942 года не стремился на фронт совершенно, предчувствуя дальнейшее ухудшение ситуации, а вовсе не победу, о близости которой твердил Геббельс.
Примечателен в этом отношении приказ Гитлера солдатам и офицерам 6-й ПА от 17.11.1942 «О прорыве к Волге в районе Сталинграда», содержащий многозначную фразу: «…Мне известны трудности борьбы за Сталинград и упавшая боевая численность войск» [15].
В связи с культом фюрера в Германии одним из основных объектов для идеологических атак был Адольф Гитлер. Отношение к нему среди солдат порой напоминало почитание национального святого, более того, присяга военных была адресована лично ему. Крушение его ореола – по существу, разрушение идейной основы воинского долга. Поэтому прилагались большие усилия для того, чтобы опорочить лидера. Для разрушения внешнего образа привлекались лучшие художники: карикатуры группы художников Кукрыниксов обладали большой действенно- стью и использовались в агитационных материалах. Они беспощадно высмеивали и разрушали все базовые устои немецко-фашистского порядка.
Постепенно выяснялось, что агитация и пропаганда не были бесполезной работой, хотя результаты не были скорыми. Накопление антигитлеровских настроений шло медленно. В критические минуты, когда нужно было оправдать свое решение сдаться, солдат часто говорил о том, что Гитлер их предал, что он – истерическая бездарность. Повторялись и прочие штампы, которыми его ежедневно пичкала советская пропаганда [3].
Если идеологические проповеди не имели существенного влияния на немецких солдат, то фанатическое упорство «русских» в боях днем оказывало влияние на психику. Глубокий невроз солдат и офицеров стал типичным явлением на передовой. Явное расстройство психики наблюдалось и у офицеров, да и у самого В. Паулюса. Советские пропагандисты скрупулезно считали и доводили до немцев их потери. К концу второго этапа немецкие солдаты еще не сдавались добровольно, но в атаку многие уже шли неохотно и при первых выстрелах залегали за каким-либо укрытием [11].
Третий этап. Ситуация и ее оценки изменились внезапно для немецких войск. В первой половине ноября было предпринято последнее мощное наступление, 17 ноября Гитлер еще нацеливает войска на последний рывок в районе заводов, а 19 ноября многие поняли, что победы не будет.
После разгрома деблокирующей группы Манштейна давно подмеченная зависимость действенности СП от успешности боев начала приносить плоды в Сталинграде [1]. Все большее количество солдат вермахта начинало осознавать, что советская информация и раньше была более точной и правдивой, чем геббельсовская.
К тому же в дело вступили высокопрофессиональные агитаторы – немецкие коммунисты. Перед солдатами через громкоговоритель выступали даже лидеры Коминтерна – Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт [1; 16]. В разработке материалов для газеты «Die Wahrheit» принимали участие Э. Вай-нерт, Ф. Вольф, И. Бехер, В. Бредеш [1; 17]. Агитаторы-антифашисты при помощи звукопередающих установок в пух и прах разносили идейные основы фашистского «социализма», потому что теперь солдат не мог их не слышать, а командиры не могли увести их. Пропагандистам из министерства Геббельса нечего было противопоставить немецкой основательности аргументов, излагаемых профессиональными революционерами.
Изменилось коренным образом и звуковое сопровождение. С первых дней войны авиация была единственным родом войск, в котором немцы об- ладали неоспоримым преимуществом. В значительной мере именно она и обеспечивала вермахту победы на земле. Гул своей авиации раньше всегда оправдывал надежды пехоты в самых тяжелых ситуациях. После 19.11.1942 в небе над городом самолеты с крестами летать перестали. Для наземных войск тихое небо стало сильным деморализующим фактором [18]. Иногда пролетали советские самолеты, советская артиллерия парализовала боевую активность окруженных войск.
Постепенно основным психологическим «якорем» в обращениях к окруженным стало обращение к чувствам солдата: любви к детям и близким, которым он нужен. Зная о высоком чувстве воинского и гражданского долга немецкого солдата, советская СП ему внушала, что его долг – выжить ради послевоенной Германии, которая будет единой, демократической и мирной.
Для третьего периода характерен постоянный прирост доли форм и методов психологического давления среди стандартного набора пропагандистских штампов. Позже пленные признавались, что самое тяжелое воздействие на них оказывала фраза, которая повторялась круглосуточно многие недели. На фоне наступившей тишины громкоговорители спокойно и мрачно твердили: «Stalingrad – Massengrab». По свидетельству пленных, в сочетании со стуком метронома и упоминанием гибели немца каждые 7 секунд эта фраза, как китайская пытка водой, сводила с ума [9]. Они не упоминали, но мы обнаружили, что эта рифма ранее обыгрывалась министерством пропаганды: «Stalingrad er tatt» (‘Сталинград плачет’). Теперь эта рифма играла уже в обратную сторону.
Отметим, что в черте города немцы в плен сдавались редко. Во-первых, трудно рассчитывать на снисхождение после тех зверств, которые были совершены за эти месяцы, во вторых, солдаты с обеих сторон мгновенно расстреливали любое движение на противоположной стороне. В этих условиях в городе немцы часто не успевали сдаться. Сдача в плен шла хорошими темпами на западном фасе котла, где отношение к немецким солдатам не было столь жестким, и наши солдаты относились к пленным более мягко. Более того, на западном направлении фиксировались массовые сдачи целых подразделений и частей (это были в основном союзники). Выяснилось, что наша СП была действенной, а прежняя критика в ее адрес была напрасной: количество стало переходить в качество.
В самом городе сопротивление солдат вермахта держалось на чувстве боевого товарищества и братства по оружию (Waffenbruder) и страхе возмездия за совершенные злодеяния. Главным идейным оправданием продолжения борьбы окруженных становилась идея «жертвенности». Сначала солдат призывали держаться до деблокады, потом – для удержания советских войск, которые хлынули бы в разрыв, образовавшийся на Восточном фронте. Надо признаться, что, скорее всего, так и было бы, поэтому военная целесообразность удержания позиций влияла на мотивацию обороняющихся.
В речи по поводу 10-й годовщины прихода к власти нацистов, произнесенной 30 января 1943 года, Геббельс стал восхвалять «великие жертвы героев», принесенные солдатами под Сталинградом. Их непоколебимая вера в фюрера и в Райх налагает обязательства на всех немцев – как на фронте, так и на родине. Этот тезис подхватили писатели, например, поэт Генрих Лерш (Heinrich Lersch) писал: «Они погибли, чтобы жила Германия». Этот тезис через посредство мемуаров и приближенных Геббельса при К. Аденауэре продолжил жизнь и в наши дни [19]. Но еще в 1942 г. антифашисты развенчали его: окруженные спасали не Германию, а режим Гитлера.
Сегодня тема Сталинградской битвы остается важнейшим аргументом в политических дискурсах с немцами. Многие осознают, что завершение войны в 1943 году спасло бы жизни многих миллионов людей по обе стороны фронта, а Германию – от разрушения и унижений. Немецкий исследователь в наши дни может писать честно о подмене понятий Геббельсом, который выставлял германские войска на далекой Волге защитниками Европы от агрессии большевиков [12, 20].
На самом деле устойчивость обороны на восточном фасе кольца (на территории города) была обусловлена в основном страхом. Это не только боязнь возмездия, но и боязнь СС. На территории, занимаемой 6-й армией, были подразделения и части полевой жандармерии и СС. Они не указываются в боевых сводках, но упоминания о них изредка встречаются, а археологи находят их атрибуцию на территории города. После окружения они стреляли в немецких солдат, пытавшихся сдаваться в плен. Среди пленных не отмечались солдаты в форме Waffen-SS. Вероятно, перед сдачей в плен они переодевались в форму вермахта.
Стойко оборонять опорные пункты солдат заставлял еще и страх перед морозом: «Если отступить, то потеряешь и теплый оборудованный подвал со всеми запасами, а это – мучительная смерть на морозе». Думается, что если бы войска Паулюса попытались и смогли вырваться из кольца на запад в декабре или январе, они просто замерзли бы на морозе. В городе у них была надежда отсидеться в тепле до эвакуации самолетом. Солдаты, как правило, с запозданием узнавали, что это пустая надежда: транспортные самолеты были сбиты, а аэродромы разбомблены и захвачены советскими войсками. Надежды на счастливый исход «в огне холодного ада» медленно угасли примерно за месяц [10].
С конца декабря основным мотивом сопротивления, по всей видимости, осталась идея боевого братства (Kampfbruderschaft), которая ослаблялась по мере выбытия боевых товарищей из строя.
Последним духовным оплотом для окруженных, больных, раненых и голодных солдат вермахта стала вера в бога, к которому чем чаще стали обращаться солдаты, тем больше разрушались прежние идейные устои. Армия, попиравшая все христианские заповеди, в дни гибели обращала свои надежды к богу. Этот поворот в сознании был неожиданным для советских специалистов, которые, как нам кажется, не нашли возможности использовать эту тему в своих целях.
Но они смогли использовать веру в воинскую честь офицера. С учетом уважения немецких солдат к высшему командному составу было составлено обращение маршала Г. Жукова к окруженным, которое он подписал лично, гарантируя достойное отношение. Оно произвело большое впечатление. Он же подписал инструкцию для своих войск, в которой обязал их действовать в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными. Реакция была довольно быстрой – поток пленных возрос. К сожалению, многие из немецких солдат были уже неизлечимо больны и обморожены. Лишь ничтожная часть солдат окруженной группировки смогла выжить, дойти до стационарных концлагерей [1].
Для многих из них стало новым шоком добросовестное отношение к ним персонала лагерей. Идейно воспитанный обслуживающий персонал лагерей шел на реальные жертвы и риски для излечения и перевоспитания бывших врагов. При этом многие медсестры, помогая больным, сами заражались, некоторые умирали (например, в Елабуге). Военнопленные, оказавшиеся способными оценить подобное отношение, впоследствии стали гражданской опорой демократическим преобразованиям новой Германии [21].
Но не были уничтожены и те, которые не расстались со своими взглядами и утверждали, что такое отношение и должны оказывать «недочеловеки» (Untermensch) настоящим героям-арийцам, те, что в декабре 1955 года принесли коллективную клятву немецкому народу при возвращении в Vaterland (Отечество), что якобы в войне против СССР они строго придерживались международных правил ведения войны. При этом каждый знал, что это была «война, в ходе которой немцы нарушили все действовавшие тогда конвенции» [11]. «Коллективное лжесвидетельство!» – так назвал эту клятву Воль- фрам Ветте. Коллективная ложь не смирившихся с поражением стала основой для отбеливания фашистов в эпоху холодной войны [22, 20]. Таким образом, идеологический фронтир сталинградского противостояния находит отклик в душах европейцев и в наши дни.
Обсуждение и заключения
На протяжении боевого противодействия РККА и вермахта спецпропаганда динамично меняла методы и акценты в тематике работы, которые все более смещались от идеологического воздействия к психологической войне. Предметом психологических атак становились такие чувства, как страх, зависть, желание есть, спать, любовь к близким, корпоративная неприязнь фронтовиков к тыловикам. Пропагандисты последовательно разрушали мифы, на которых базировалась идеологическая и психологическая устойчивость немецкого солдата: вера в «гений фюрера», уверенность в превосходстве немецкого порядка, командования и оружия, вера в быстрое и победоносное завершение войны. Успех (и неуспех) пропагандистского воздействия находился в прямой зависимости от военных побед и поражений. Сама Сталинградская трагедия сразу после завершения и на многие десятилетия стала темой пропаганды и воспитания: символом стойкости и трудной победы многонациональной Советской Армии, с одной стороны, и символом мученической гибели за ложные идеалы – с другой.