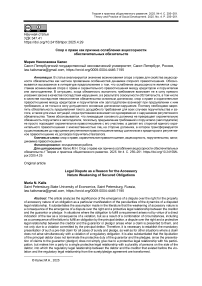Спор о праве как причина ослабления акцессорности обеспечительных обязательств
Автор: Калис М.Н.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется значение возникновения спора о праве для свойства акцессорности обязательства как частное проявление особенностей динамики спорного правоотношения. Обосновывается высказанное в литературе предположение о том, что ослабление акцессорности является следствием возникновения спора о праве и охранительного правоотношения между кредитором и поручителем или залогодателем. В ситуациях, когда обязанность выполнить требование возникает не в силу прямого указания закона в качестве последствия нарушения, а в результате совокупности обстоятельств, в том числе в качестве последствия неисполнения обязательства основным должником, спор о праве и охранительное правоотношение между кредитором и поручителем или залогодателем возникает при предъявлении к ним требования, а не только в силу допущенного основным должником нарушения. Поэтому необходимо закрепить обязательность предъявления такого досудебного требования для всех случаев поручительства и залога, а также для иных ситуаций, когда притязание возникает не одновременно с нарушением регулятивного обязательства. Также обосновывается, что ликвидация основного должника не прекращает охранительную обязанность поручителя и залогодателя, поскольку предъявление требований к поручителю (залогодателю) не просто порождает охранительное правоотношение с его участием, а делает его стороной единого охранительного правоотношения с множественностью лиц на стороне должника, в которое трансформируется существовавшее до нарушения регулятивное правоотношение между должником и кредитором и регулятивное правоотношение из договора поручительства/залога.
Спор о праве, охранительное правоотношение, акцессорность, поручительство, залог, динамика правоотношения
Короткий адрес: https://sciup.org/149148301
IDR: 149148301 | УДК: 347.41 | DOI: 10.24158/tipor.2025.4.29
Текст научной статьи Спор о праве как причина ослабления акцессорности обеспечительных обязательств
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия, ,
Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russia, ,
Введение . С позиции гражданско-правовой доктрины акцессорный характер обеспечительных обязательств проявляется в их производной зависимости от основного обязательства, что выражается принципом «прекращение долга влечет утрату обеспечения» (Бевзенко, 2013а). В случае отступления от данного принципа – в частности, в случае сохранения обеспечительного обязательства при прекращении основного – говорят об «ослаблении акцессорности» (Сайфуллин, 2016). Обосновывая ослабление акцессорности, исследователи указывают на требования хозяйственного оборота, интересы защиты кредитора и правомерность подобных исключений в контексте правоприменительной стратегии (Бевзенко, 2012; 2013б).
В данной статье мы рассмотрим только один пример ослабления акцессорности – сохранение залога и поручительства после ликвидации должника по основному обязательству в случае предъявления кредитором требований к залогодателю или поручителю соответственно. Целью настоящего исследования является поиск доктринального обоснования такого влияния возникновения спора о праве и передачи его в суд на свойства материального правоотношения.
Материалы и методы . Полагаем необходимым проследить, как в законодательстве и судебной практике нашло отражение описываемое явление, а также какие позиции относительно влияния нарушения права на акцессорность отражены в доктрине.
В пункте 21 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» указывалось, что предъявление в суд требования к залогодателю (не совпадающему с основным должником) об обращении взыскания на предмет залога (или установлении залогового требования в рамках банкротства) препятствует прекращению права залога (даже в случае последующего исключения сведений об основном должнике из ЕГРЮЛ). Эта позиция поддерживается судебной практикой и спустя 15 лет с момента ее формулирования1. Данный вывод был распространен на поручительство сначала судебной практикой2, затем нашел отражение в пункте 21 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» в отношении предыдущей редакции названной статьи, а в настоящее время прямо закреплен в п. 1 ст. 367 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ).
Таким образом, мы можем говорить о признании законодателем и практикой правильности предложенного еще в 2009 г. на уровне Постановления Пленума ВАС РФ подхода, расширении сферы его применения и закреплении в законодательстве.
Анализируя такой подход, Р.С. Бевзенко указывал, что залогодатель или поручитель принимает на себя все риски, связанные с тем, что обязательство должника не будет им исполнено, в том числе вследствие банкротства должника и его последующего исключения из реестра юридических лиц; а до того, как кредитор обратится к залогодателю или поручителю с требованием выдать заложенную вещь или исполнить договор поручительства, последние не должны рассматриваться как находящиеся в просрочке. Но эти доводы не объясняют, почему именно момент предъявления иска влечет «ослабление акцессорности» поручительства и залога (Бевзенко, 2012; 2013б).
Также стоит обратить внимание на то, как Верховный Суд РФ в п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве» приравнял для целей «ослабления акцессорности» правовые последствия направления претензии (если претензионный порядок урегулирования спора предусмотрен законом или договором) к последствиям предъявления иска в суд.
Необходимо определить, является ли такая позиция Верховного Суда РФ следствием исключительно практических соображений (по которым лицо, вынужденное соблюдать обязательный претензионный порядок, не может быть поставлено в худшее положение по сравнению с лицами, не обремененными такими обязанностями), или же имеется теоретическое обоснование такой позиции. Это требует более глубокого исследования вопроса о моменте возникновения спора о праве и последствиях их возникновения.
М.А. Егорова связывает невозможность прекращения акцессорного обязательства ликвидацией должника с возникновением охранительного обязательства (Егорова, 2013).
Согласно классическому определению, под регулятивными правоотношениями понимаются отношения, возникающие из правомерных действий или событий в целях обеспечения нормальной организации общественной жизни, а под охранительными – правоотношения, возникающие из предусмотренных законом конфликтных ситуаций, препятствующих осуществлению регулятивных правоотношений (Мотовиловкер, 1990: 54).
В соответствии с доминирующей научной позицией, охранительные правоотношения появляются вследствие нарушения субъективного права либо его оспаривания. Точка зрения, согласно которой охранительное правоотношение возникает только с момента обращения в суд, при этом последний является его участником, в современной литературе фактически не встречается (Иванов, 1970; Курылев, 1958).
Вместе с тем, в случае с поручительством и залогом (если залогодателем является отличный от должника субъект), нарушение основного обязательства должником само по себе не влечет возникновения охранительного правоотношения между кредитором и поручителем/залогодателем.
Представляется, охранительное правоотношение формируется одновременно с возникновением правового спора, но не всегда одновременно с нарушением обязательства.
В доктрине и, тем более, в законодательстве отсутствует единое определение спора о праве – некоторые исследователи отождествляют его с охранительным правоотношением (Елисейкин, 1978: 115), другие рассматривали как «качество правовой неопределенности материальных субъективных прав, законных интересов или в целом правоотношений» (Цепкова, Ионова, 2010: 105) или как последствие обращения в суд (Елисейкин, 1981: 19–20).
Следует согласиться с позицией М.М. Ненашева, согласно которой под спором о праве необходимо понимать не субъективное отношение лица к существующим у него правам (тогда это понятие перестало бы быть универсальным) и не результат нарушения или оспаривания прав (тогда оно было бы тождественно охранительному правоотношению), а состояние, при котором требование одной стороны не может быть удовлетворено вопреки воле иного субъекта иначе, чем путем обращения в юрисдикционный орган1.
Оговорим, что спор может возникать и в отсутствие правоотношений между его сторонами – например, в случае, если инициатор спора заблуждается относительно наличия у него права. Однако в таком случае возникновение спора само по себе материально-правовых последствий не влечет, поэтому в настоящей статье мы рассматриваем ситуацию, в которой существуют и материальные правоотношения, и факт их нарушения.
С этой точки зрения спор о праве возникает, когда и управомоченное лицо определилось с предметом требований, с тем, какие его права нарушены, и эти требования известны (или должны быть известны) обязанному лицу. Обязанное лицо должно знать об охранительном требовании в том случае, если его возникновение обусловлено лишь фактом нарушения и не зависит от волеизъявления самого кредитора (например, от выбора им конкретного требования из нескольких альтернативных) или от наступления иных обстоятельств (к примеру, в случае с поручительством обязанность у поручителя возникает не только в силу наступления срока исполнения основного обязательства, но и в результате бездействия/нарушения со стороны основного должника, выразившемся в неисполнении обязательства).
В тех случаях, когда у кредитора есть право выбора требования – например, потребовать замены товара, устранения его недостатков или возврата уплаченных денежных средств – охранительное правоотношение возникает в момент предъявления такого требования, о чем свидетельствуют, в частности, нормы об ответственности за неисполнение требований только по истечении срока для их добровольного удовлетворения, хотя само по себе нарушение права произошло в момент передачи товара ненадлежащего качества (ст. 22, 23 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
Результаты и обсуждения . В рассматриваемой же ситуации с акцессорными обязательствами поручитель и залогодатель не могут знать о наличии требования кредитора до того, как он уведомит их о неисполнении обязательства должником и потребует от них исполнения обязательства, так как они сами не являются субъектами этого нарушения.
Поэтому до направления требований к поручителю или залогодателю правовая связь между ними и кредитором сохраняет регулятивную природу, поскольку продолжает выполнять функцию обеспечения, заложенную изначально, в их динамике не происходит изменения. И только после предъявления требования к поручителю/залогодателю у данных лиц возникает охранительное правоотношение с кредитором, которое может быть принудительно осуществлено.
Данная позиция косвенно подтверждается и тем, что в силу пункта 6 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается при условии, что кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручителю. В этом случае «охранительное» состояние поручительства не возникает, так как требование не было предъявлено, а «регулятивное» поручительство прекращается во избежание сохранения состояния правовой неопределенности, при котором один из юридических фактов, необходимых для возникновения охранительного правоотношения с поручителем, - неисполнение должником обязательства - уже наступил, а второй, зависящий от воли управомоченного лица, - предъявление требований - не наступил.
При этом законодательство не закрепляет необходимости предъявления досудебного требования к поручителю/залогодателю во всех случаях неисполнения обязательства должником. Если к правоотношениям сторон применимы положения ч. 5 ст. 4 АПК РФ о необходимости предъявления претензии (стороны являются юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями), то охранительное правоотношение возникнет в связи с предъявлением такой претензии; если же данные положения не применяются, то только в момент предъявления иска в суд.
По этой причине в действующей редакции п. 1 ст. 367 ГК РФ указывается на то, что препятствием для прекращения поручительства по причине ликвидации основного должника является как предъявление иска, так и требований в ином порядке.
Полагаем, что в связи с особенностями возникновения охранительных правоотношений в рассматриваемых ситуациях, необходимо законодательно закрепить обязанность направления досудебного требования поручителю/залогодателю во всех случаях независимо от субъектного состава правоотношения.
Аналогичные правила следует установить и для иных случаев, когда спор о праве возникает не в момент нарушения, в том числе в описанной выше ситуации наличия у кредитора права выбора различных требований. В противном случае мы имеем дело с ситуацией, в которой истец обращается в суд при отсутствии спора о праве, и этот спор появляется только в результате обращения в суд. Ввиду этого у ответчика, который не был поставлен в известность о наличии и/или содержании предъявляемых к нему требований, могут возникнуть негативные последствия, связанные с судебным разбирательством (например, обязанность по возмещению судебных расходов).
Таким образом, мы определили момент возникновения охранительного правоотношения с участием поручителя или залогодателя - это не момент нарушения должником основного обязательства, а момент предъявления к ним требований. Однако данный вывод еще не позволяет дать ответ на вопрос, почему это охранительное правоотношение между кредитором и поручи-телем/залогодателем сохраняется даже при ликвидации основного должника, если обязательство должника перед кредитором, обеспеченное поручительством, при этом прекращается.
Полагаем, что предъявление требований к поручителю (залогодателю) не просто порождает охранительное правоотношение с его участием, а делает его стороной единого охранительного правоотношения с множественностью лиц на стороне должника, в которое трансформируется существовавшее до нарушения регулятивное правоотношение между должником и кредитором и регулятивное правоотношение из договора поручительства/залога. Такому подходу полностью соответствует, в частности, и солидарный характер обязанностей поручителя и должника (п. 1 ст. 363 ГК РФ), а также сопоручителей (п. 3 ст. 363 ГК РФ), в том числе наличие у поручителя права требовать исполненного от должника (ст. 365 ГК РФ). Правоотношение с множественностью лиц на стороне должника не прекращается в связи с ликвидацией одного из них, что объясняет, почему ликвидация основного должника после предъявления требований к поручителю (то есть после того, как он стал стороной этого охранительного правоотношения) не влечет прекращения этого отношения.
Выводы . Таким образом, нами обосновано, что нормативно закрепленное и признаваемое судебной практикой «ослабление акцессорности» - сохранение правоотношений поручительства и залога при ликвидации основного должника связано с тем, что:
-
- именно при предъявлении кредитором требований к поручителю или залогодателю, а не в момент нарушения должником основного обязательства, возникает охранительное правоотношение и, как следствие, спор о праве между кредитором и лицами, предоставившими обеспечение;
-
- поскольку это охранительное правоотношение возникает для восстановления нарушенного права кредитора на получение исполнения по основному обязательству, сторонами такого единого
охранительного правоотношения, возникающего в результате трансформации регулятивных правоотношений «должник – кредитор» и «кредитор – поручитель/залогодатель», становятся поручи-тель/залогодатель совместно с должником; поэтому ликвидация одного из обязанных субъектов (должника) не влечет прекращения этого охранительного правоотношения.