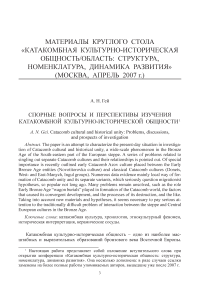Спорные вопросы и перспективы изучения катакомбной культурно-исторической общности
Автор: Гей А.Н.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 225, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой попытку охарактеризовать современную ситуацию в исследовании катакомбного культурного и исторического единства, широкомасштабного явления в бронзовом веке юго-восточной части европейской степи. Указывается на ряд проблем, связанных с выделением отдельных катакомбных культур и их взаимоотношений. Особое значение имеет недавно обозначенная ранняя катакомб-азовская культура, расположенная между объектами раннего бронзового века (культура Новотиторовка) и классическими катакомбными культурами (Донецкая, Западная и Восточно-Манычская, Ингульская группы). Многочисленные данные свидетельствуют главным образом о локальном способе формирования единства Катакомбы и его отдельных вариантов, которые серьезно ставят под сомнение мистицистские гипотезы, столь популярные не так давно. Многие проблемы остаются нерешенными, например, роль ранних бронзовых эпох «погребальные погребения», которые играли в формировании Катакомбного мира, факторы, вызвавшие его конвергентное развитие, и процессы его разрушения и т. П. Принимая во внимание новые материалы и гипотезы, необходимо обратить серьезное внимание на традиционно трудную проблему взаимодействия степной и среднеевропейской культур в эпоху бронзы.
Катакомбная культура, хронология, этнокультурный феномен, историческая интерпретация, керамические сосуды
Короткий адрес: https://sciup.org/14328442
IDR: 14328442
Текст научной статьи Спорные вопросы и перспективы изучения катакомбной культурно-исторической общности
Катакомбная культурно-историческая общность – одно из наиболее масштабных и выразительных образований бронзового века Восточной Европы.
Сознательное изучение ее насчитывает уже более ста лет, его история сама по себе интересна, поучительна как пример поступательного развития наших знаний, но одновременно и достаточно известна. Имеет смысл обратиться прежде всего к характеристике современного состояния и связанных с ним проблем (как их понимает автор).
Типическая схема археологического исследования этнокультурной направленности такова: открытие яркого и не похожего на уже известные памятника (констатация нового явления) → накопление информации о близких или даже аналогичных памятниках (выделение новой общности) → дальнейшее накопление материалов и диверсификация методов изучения (установление внутренней структуры общности, а затем неизбежное усложнение и ветвление этой структуры). Параллельный (но постоянно влияющий на первый) ход – соотнесение новых явления – общности – структуры с окружением, аналогичными сущностями по соседству, с предшествующими, с последующими (а они тоже постоянно меняются и усложняются). Смысл процесса – поиск решений наиболее сложных задач, касающихся генезиса, развития и последующих судеб явления, и историческая их интерпретация.
Все это применимо к изучению катакомбной общности и ее структуры с той оговоркой, что для одних территорий и групп памятников сейчас уже можно предполагать различение не просто реальных коллективов, но буквально семейных групп (что, впрочем, требует проверки генетическими анализами), тогда как другие остаются недостаточно или плохо изученными. Тем не менее постоянное усложнение структуры и применение означенных выше общих вопросов к отдельным ее составляющим, как кажется, способствует пониманию основных вех развития общности в целом. Важнейшим результатом последних двух десятилетий является разработка, грубо говоря, трехступенчатой культурно-хронологической схемы катакомбного мира с признанием наличия нескольких культурных образований (культур, культурных типов или групп) на каждом этапе, притом что ни одно из них не существует долее двух этапов. Выделение особого раннекатакомбного этапа с его преддонецкой культурной группой в Северном Приазовье и на Нижнем Дону и приазовской культурой в Прикубанье способствовало разделению проблемы происхождения катакомбной культуры на составляющие: сложение самих этих ранних групп и формирование в последующем на их основе серии локальных катакомбных культур развитого этапа. А очевидное в обоих случаях наследование культурных норм и стереотипов (в первом случае от ново-титоровской культуры и ее аналогов, во втором – от раннекатакомбных групп) способствовало отходу от миграционистских схем формирования катакомбной общности, доминировавших на протяжении всего ХХ столетия. В любом случае существенная роль местных групп и автохтонных процессов признается теперь даже решительными сторонниками внешних импульсов.
Перейдем к характеристике отдельных культур и связанных с ними проблем, которые представляются наиболее важными в настоящее время.
-
1) Преддонецкая и/или приазовская. Долгое время оставалась намеченной крайне эскизно. Лучше других изучены памятники Донца и Нижнего Дона, обозначаемые как раннекатакомбные ( Смирнов , 1996) или относящиеся к ран-
нему этапу донецкой культуры ( Братченко , 2001). Этот нюанс достаточно важен: по сути, речь идет о том, имеет ли место особый раннекатакомбный пласт всей общности или выразительный локальный феномен, ставший основой для формирования лишь некоторых катакомбных культур. Широкое территориальное распространение материалов раннего облика достаточно очевидно, однако в некоторых районах (Калмыкия, Северо-Западное Причерноморье, Нижнее Поволжье) так называемые раннекатакомбные комплексы часто недостаточно гомогенны или недостаточно отчетливо выделяются из всего катакомбного массива ( Шишлина , 2007), а по особенностям обряда и инвентаря должны быть признаны несколько более поздними, чем древнейшие материалы в приазовском «очаге» катакомбного культурогенеза, и скорее сопоставимыми с начальными фазами локальных катакомбных культур развитого этапа общности.
Один из аспектов проблемы «первичного очага» или «центра» катакомбного культурогенеза связан с его локализацией (Нижний Дон, или все-таки Кубань, или и то и другое?). В сопровождающем инвентаре из наиболее ранних катакомб Правобережья Нижнего Дона и прилегающих районов Северного Приазовья присутствует небольшая, но выразительная серия сосудов с характерной орнаментацией в виде очень длинных, спускающихся до придонной части, заштрихованных треугольников с особенным обрамлением боковых сторон, представляющая как бы особый керамический стиль, который может быть назван «кадамовским». Известна подобная находка и в Прикубанье (Новокорсунская, 2/17; см.: Кондрашов, Тарабанов , 1986), с той разницей, что здесь подобный сосуд связан с комплексом, формально соответствующим заключительному, третьему этапу новотиторовской культуры (яма с уступом и угловой ступенькой, что, с моей точки зрения, позволяет включать ее в число «протокатакомб»; детали повозки на уступе; скорченное на правом боку положение погребенного с западно-юго-западной ориентировкой), предваряющему появление собственно катакомб. Нельзя исключить возможность, что данный комплекс является в действительности не новотиторовским, а «постновотиторовским», отражающим сохранение новотиторовских традиций уже в раннекатакомбной среде. Такие случаи не единичны. Но интрига, связанная с уточнением хронологического соотношения предкатакомбных и раннекатакомбных материалов на разных территориях, сохраняется, и разрешать ее только по керамическим материалам, даже по их стилистическим особенностям, вряд ли правомерно. Такие признаки могут довольно причудливо изменяться в пространственно-временных координатах.
Стоит особо отметить и проблему разнонаправленности развития отдельных составляющих более раннего «блока культур с повозками» и сменяющих их раннекатакомбных образований. Почему чрезвычайно схожие с новотиторов-цами буджакцы игнорировали катакомбный путь? Почему на всей территории катакомбной общности формируются локальные культуры развитого ее этапа, а «на родине», в Приазовье, продолжается развитие приазовской культуры, тогда как более заметный рубеж отделяет ее поздние памятники от батуринских?
-
2) Предкавказская. За последние полвека претерпела, пожалуй, наибольшие трансформации. В настоящий момент на ее месте выделена группа самостоятельных культур со скорченным обрядом погребений: западноманычская ,
восточноманычская и несколько более поздняя по отношению к ним батуринская (наиболее отчетливая в Прикубанье, но имеющая соответствия и на остальных территориях Предкавказья). Заметный контраст им представляют культурные группы с обрядом вытянутых погребений: весьма архаичная «степная» северокавказская катакомбная (основное ядро которой занимает территории Калмыкии и северных районов Ставрополья) и хронологически более поздняя «предгорная», наиболее ярким проявлением которой является верхнекубанская группа. Интерес представляют как критерии, положенные в основу различения, так и смысловая сторона их группировки. При значительном сходстве в погребальных конструкциях и материальном комплексе западно- и восточноманыч-ская предельно четко разделяются по обряду (скорченные захоронения, право-бочные с преобладанием северных и западных ориентировок в первом случае и левобочные с южными и восточными ориентировками – во втором). Реальность их обособления/противопоставления подчеркивается примером со специфической группой левобочных погребений из района Азова, представляющей собой специфический восточноманычский анклав внутри западноманычского ареала. И наоборот: заметные отличия в конструкции катакомб и в материальном наборе при очевидной разновременности северокавказских катакомбников Центрального Предкавказья, с одной стороны, и Закубанья – Верхней Кубани – с другой, не противоречат их отнесению к разным стадиям развития одного и того же массива населения, практиковавшего обряд вытянутых трупоположений.
-
3) Донецкая. Вопрос о формировании этой яркой и самобытной культуры, занимающей в территориальном отношении центральное место в катакомбном ареале, до выделения преддонецкого типа или пласта практически приравнивался к проблеме формирования всей катакомбной общности; так он был обозначен еще В. А. Городцовым, так рассматривался в работах Л. С. Клейна. С учетом новых данных он очевидно должен быть переориентирован на выяснение, почему из преддонецкой основы, в общем-то единой, берут начало такие заметно отличающиеся и принципиально отказывающиеся смешиваться между собой культурные образования, как донецкая и западноманычская культуры. Не меньший интерес представляют и такие темы, как время и причины распространения не характерных для преддонецкой культуры новых типов погребальных сооружений (так называемых Н-катакомб), северные границы донецкой культуры и роль ее в формировании лесостепных групп, характер смешанных позднедонецких или бахмутских групп, культурный набор которых достаточно своеобразен и вряд ли может объясняться только донецкими или манычскими прототипами.
-
4) Среднедонская. На протяжении долгого времени основное внимание исследователей привлекали вопросы относительной хронологии и периодизации. Только недавно предпринята совершенно справедливая попытка выделения локальных вариантов – право- и левобережного ( Березуцкая , 2003), которые в перспективе могут обрести статус самостоятельных культур. Для правобережной вполне может быть сохранен старый термин – харьковско-воронежская, поскольку ей свойственна ориентация на западную и юго-западную лесостепь; основное направление связей левобережной – юго-восточные степные районы, причем границы с доно-волжской культурой выглядят пока достаточно проблематично.
-
5) Доно-волжская. Не общепризнанная; по сути, находится в стадии выделения и обособления от прочих. Начало этому процессу было положено еще работами В. И. Мельника, выделившего «чистые» катакомбные комплексы из достаточно аморфного круга полтавкинских памятников Поволжья. Спорными остаются вопросы не только ее разграничения со среднедонской левобережной, но и западных ее пределов, где отмечается размытость характеристик комплексов с елочной (елочно-гребенчатой) орнаментацией, особенно по направлению к Нижнему Дону и Донцу.
-
6) Ингульская. Определение хронологической позиции и места ее в системе катакомбной общности выглядит пока достаточно противоречивым. С одной стороны, большинство исследователей склонно относить ее к числу позднекатакомбных образований. Вместе с тем существуют и не лишенные резонов заключения о тесных связях, даже симбиозе, с поздними ямниками и донецкими катакомбниками. Вероятный архаизм погребального обряда, свойственного ин-гульской культуре и отличающего ее от других катакомбных групп Северного Причерноморья (вытянутые трупоположения), свидетельствует скорее в пользу второй точки зрения. Кроме того, при отчетливых параллелях с культурными группами, практиковавшими такие же вытянутые захоронения в Предкавказье (сопровождаемых определенными элементами сходства антропологического типа в обоих ареалах; впрочем, эти данные также пока немногочисленны), больше точек соприкосновения находится не с верхнекубанской группой или северокавказскими степными катакомбниками, а с хронологически им предшествующей собственно северокавказской культурой (в формах керамики, в пристрастии к топорам). Представляется, что разрешение этого противоречия возможно прежде всего через разработку вопросов о хронологической неоднородности и локальной вариативности такого обширного образования, каким является ин-гульская культура.
Новая хронология. Принципиальное значение для решения вопросов о структуре катакомбной общности, а также о взаимоотношениях входящих в нее образований между собой и с другими синхронными культурами имеет решительный переход от традиционной хронологии к системе калиброванных радио-карбонных дат. Работы старше 5–7 лет с их определениями («к первой половине XVII в.; не позднее рубежа XIX–XVIII вв.») воспринимаются ныне как глубокий анахронизм.
При этом следует отметить неравномерную обеспеченность датами разных культур общности и почти полное их отсутствие для некоторых. Среди последних – батуринская культура и верхнекубанская группа Предкавказья; определения для ингульской начали поступать лишь в самое последнее время (Kaiser, 2003). Крайне ограниченны пока данные и по среднедонской. Первая дата, полученная для погребения 47/4 Павловского могильника на Левобережье (4130 ± 40 BP, или 2873–2615 BC cal) была отвергнута как чрезмерно удревненная (Синюк, 1983). Вторая, полученная для погребения правобережного варианта (могильник Репная Балка, 1/5), определена как 4030 ± 70 BP, или 2615–2463 BC cal (ИГАН-2449). Обе они соответствуют диапазону дат памятников среднего и позднего этапов развития общности с других территорий, что не подтверждает распространенного мнения об особо поздней хронологической позиции среднедонской культуры в целом 2.
Новые открытия и разработки. Среди наиболее важных для изучения катакомбной общности, особенно позднейших ее фаций, следует признать плодотворную разработку в последние годы тематики посткатакомбных культур и синхронных им образований. Обобщение данных по бабинской культуре и уточнение ее состава и структуры (отраженное наиболее полно в серии работ Р. А. Литвиненко; см.: Литвиненко , 2009), выделение лолинской культуры и криволукской группы ( Мимоход , 2005) не только очертили целый блок, сформировавшийся на месте и при участии предшествующего катакомбного, но и способствовали заметному продвижению в понимании потаповско-синташтин-ского этнокультурного феномена и проблем становления культур эпохи поздней бронзы. Примечательно, что сами исследователи потаповско-синташтинских древностей, говоря об их истоках, неизменно отсылают нас к позднеямным и особенно катакомбным группам Поволжья – Подонья, однако детальные сопоставления, позволяющие определить и локализовать прототипы тех или иных признаков данного культурного комплекса, пока не проведены.
В заключение, говоря о современном состоянии исследований катакомбной культурно-исторической общности, упомянем еще два момента. Первый связан с наблюдающимся на протяжении последних 10–15 лет и охватившим практически все сферы и разделы археологической науки распространением новых естественнонаучных и аналитических методов, можно даже сказать – с повальным увлечением ими. Положительная сторона такой ситуации сомнений не вызывает, поскольку развитие междисциплинарных направлений способствует получению новых блоков информации для решения старых и постановки принципиально новых проблем. Однако на фоне заметных успехов по ряду вопросов (взаимодействия древних обществ и природной среды, палеоэкономики, истории производств, палеодемографии, а также хронологии, которая при всей своей важности остается все-таки вспомогательной дисциплиной) наблюдается и очевидное снижение интереса к традиционным направлениям – типологии и систематике, без которых анализ археологических источников, полноценная интерпретация их и выход на уровень исторических обобщений представляются мне невозможными.
А ведь здесь насущно необходимы многие разработки. Назову для примера типологию погребальных сооружений-катакомб (практически застывшую на вариациях плана сооружений – так называемых Т-, У- или Н-видных катакомбах – и не касающуюся множества иных красноречивых признаков), а также типологию поз погребенных (аналогичным образом ограничивающуюся «скачущими всадниками», «адорантами» и «пакетами»). Отмечаю именно эти две позиции не только потому, что они служат важнейшими критериями для выде- ления разных культур и культурных групп внутри общности, но и потому, что их изменчивость имеет, как кажется, свою логику, понимание которой важно и для реконструкции идеологических представлений разных групп катакомбного населения, и для уточнения характера их связей (генетических в том числе) между собой или с другими синхронными и асинхронными общностями.
Второй условно «неблагополучный» участок – рассмотрение катакомбного блока на более широком фоне, соотнесение его с ближними и дальними соседями. Выше уже отмечалась проблемная ситуация, касающаяся вклада катакомбной общности в формирование синташтинского феномена. Не меньше вопросов, и в частности в свете перехода на систему калиброванных дат, вызывает южное направление, рассматривавшееся ранее с диаметрально противоположных позиций: либо как источник импульса, не то предопределившего, не то отметившего своим влиянием формирование катакомбной общности, либо как вероятный маршрут продвижения отдельных групп уже сложившейся катакомбной культуры или даже тотального исхода ее носителей (при условии отождествления их с индоариями, что предлагается в серии работ Л. С. Клейна).
Что же касается запада и северо-запада, то здесь первоочередным выступает старый вопрос о связях или отношениях культур катакомбной общности с близким по своим масштабам блоком культур шнуровой керамики. Признание определенных параллелей в материальном комплексе и обрядовых формах у тех и других никоим образом не отражается на возобладавших в отечественной и европейской науке представлениях, согласно которым и восточнобалтийские, и восточноевропейские культуры рассматриваются прежде всего как дериваты центральноевропейских (последний пример см.: Зальцман , 2009). При этом забывается, что и в тех и в других в разных сочетаниях присутствуют и проявляются черты южноевропейских степных скотоводческих образований, среди которых уже сейчас могут быть распознаны связанные с ямной (древнеямной) общностью, синхронным, но не тождественным ей блоком «культур захоронений с повозками», наконец собственно катакомбные. Систематизация этих параллелей и определение, пусть гипотетическое, стоящих за ними исторических реалий – одна из насущных задач изучения европейского бронзового века.
Список литературы Спорные вопросы и перспективы изучения катакомбной культурно-исторической общности
- Березуцкая Т. Ю., 2003. Среднедонская катакомбная культура и ее локальные варианты. Воронеж. Братченко С. Н., 2001.
- Донецька катакомбна культура раннього етапу. Луганськ. Зальцман Э. Б., 2009.
- Поселения культуры шнуровой керамики на территории Юго-Восточной Прибалтики: Автореф. дис.. канд. ист. наук. М.
- Кондрашов А. В., Тарабанов В. А., 1986. Отчет о раскопках 2-х курганов в станице Новокорсунской Тимашевского района Краснодарского края в 1985 г.//Архив Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника. Д. 442. Литвиненко Р. А., 2009.
- Культурный круг Бабино (по материалам погребальных памятников): Автореф. дис.. докт. ист. наук. Киев. Мимоход Р. А., 2005.
- Блок посткатакомбных культурных образований (постановка проблемы)//Проблеми дослiдження пам'яток археологiї Схiдної України. Луганськ.
- Мимоход Р. А., 2009. Курганы эпохи бронзы -раннего железного века в Саратовском Поволжье: характеристика и культурно-хронологическая атрибуция комплексов. М.
- Синюк А. Т., 1983. Курганы эпохи бронзы Среднего Дона. Воронеж. Смирнов А. С., 1996. Курганы и катакомбы эпохи бронзы на Северском Донце. М.
- Шишлина Н. И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тысячелетия до н. э.)//Тр. ГиМ. Вып. 165.
- Kaiser E., 2003. Studien zur Katakombengrabkultur zwischen Dnepr und Prut//Archaologie in Eurasien. Bd. 14.