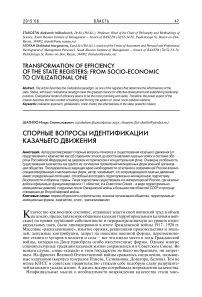Спорные вопросы идентификации казачьего движения
Автор: Шатило Игорь Станиславович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 6, 2015 года.
Бесплатный доступ
Автор рассматривает спорные вопросы генезиса и существования казачьего движения (от представления о казачестве как об отдельном этносе до восстановления казачьих войск в системе обороны Российской Федерации) на широком историческом и концептуальном фоне. Очевидна особенность существования казачества как одного из логических проявлений милиционных форм военной организации общества. Последовательно защищая идею необходимости сочетания в современной России военно-специализированных и милиционных форм, автор показывает, что возрождающееся казачье движение имеет определенный потенциал, способный воссоздать территориально-милиционную подсистему безопасности и обороны страны. Такая подсистема существовала и в императорской России, где казачьи войска официально функционировали в 11 областях, и в Советском Союзе - в виде территориально-милиционных дивизий, созданных после Гражданской войны в большинстве областей СССР и просуществовавших до Второй мировой войны.
Теория оборонного строительства, военная организация общества, территориально-милиционные формы, казачество, этнос, "расказачивание"
Короткий адрес: https://sciup.org/170167986
IDR: 170167986
Текст научной статьи Спорные вопросы идентификации казачьего движения
К азачество как военное сословие, отдающее власти свой воинский труд в обмен на землю, предоставляемую общинам казаков (территориальным казачьим войскам) на правах групповой собственности и перераспределяемую до уровня индивидуальных паев, было ликвидировано в итоге Гражданской войны 1917–1920 гг. Массовое «расказачивание», изъятие оружия, реквизиции продовольствия и лошадей, денежные контрибуции, запрет на ношение военной формы, переименование станиц и хуторов в волости и села – все это имело место в годы Гражданской войны, которая на Дону приобрела особо ожесточенные формы. Однако многие социокультурные традиции казачьей жизни сохранились и в Советском Союзе. Во всяком случае, слово «казаки» в этом государстве не было ни бранным, ни запретным. На фронтах Великой Отечественной войны сражались соединения, называемые казачьими (корпуса генералов Плиева, Селиванова, Доватора, Белова). Тем не менее КПСС и советское правительство стяжали себе недобрую славу разрушителей казацкого уклада жизни. А жизнь вскоре потребовала возрождения казачества.
Неофициальные мысли о необходимости возрождения казачества стали мно- житься на волне демократизации, вызванной перестройкой. Как правило, они были направлены против КПСС, которой вменялся в вину и геноцид казаков в 1919–1920 гг., и ликвидация казачьего сословия, и запреты на развитие казачьих традиций в последующие годы советской власти. При этом казачество часто трактовалось как этносоциальное образование, субэтнос в составе многонационального российского народа. Л.Н. Гумилев, например, писал: «На Дону образовался особый субэтнос, впоследствии ставший этносом, – казаки» [Гумилев 1998: 201-202]. Определение казаков в качестве этнической общности имеет длительную историю. Еще дореволюционные российские исследователи ссылались на соответствующее место книги одного из императоров Византии, который назвал казаков народом, живущим северо-восточнее Черного моря. Это исходный пункт рассуждений всех авторов, которые до сегодняшнего дня называют казаков особым этносом.
К чему ведет такая интерпретация вопроса об этнической принадлежности казаков, покажем на следующем примере. Филипп Орлик, избранный после смерти Мазепы гетманом войска Запорожского в изгнании, отождествлял «древний казацкий народ» с хазарами (он выражался: «козары»), которые ведут свое происхождение будто бы от «храбрых и непобедимых готов». Украинцы, по Орлику, родственны готам, поэтому тоже являются казацким народом. Отсюда обосновывалась «необходимость» перехода запорожцев на сторону шведского короля Карла ХII после его вторжения в Украину: шведы ведь тоже в какой-то степени родственны готам. Эти рассуждения были изложены Орликом в договоре, подписанном им и его избирателями в апреле 1710 г. в г. Яссы [Cоловьев 1999: 337-338]. Стремление Орлика перевести вопрос об этнической принадлежности казаков в русло антирусской идеологии культивируется на Украине и сегодня.
Но, может быть, и вправду некогда существовал в Евразии народ, именовавшийся казаками. Казахи – дружественный нам азиатский народ – часто именуют свою страну «Казакстан» вместо «Казахстан». Не будем отождествлять донских казаков (выходцев из России и других близлежащих стран) с народом Казахстана, но хотим подчеркнуть, что близость слов здесь не случайна. С.М. Соловьев писал, что слово «казаки» принесли в Россию монголо-татары, у которых низший (ополченческий) отдел войска так и назывался: казаки. Представители более высоких уровней войсковой организации именовались уланами и князьями. А если предположить, что жившие в азиатском Заволжье казахские племена как раз и поставляли основную массу ополченцев Батыю, то родственность слов «казахи» и «казаки» была бы фактически доказанной. Но родство слов – это одно, а статус этноса для донского казачества – это другое.
Отечественные теоретики, исследующие проблемы развития военной организации общества, до недавних пор недооценивали роль ее милиционных форм, к которым принадлежит и казачество. Между тем милиционные формы составляют диалектическую антитезу военно-специализированным формам, т.е. постоянным армиям. Армия – это организованное объединение вооруженных людей, которое содержится государством в целях наступательной или оборонительной войны. В данном определении можно выделить три признака: 1) это государственная организация; 2) она вооружена особыми средствами и орудиями, применяемыми лишь в «человекоубойной промышленности» (К. Маркс); 3) эта сила используется лишь в военных целях, не совмещая военную функцию ни с какой другой, т.е. специализируется исключительно в области военного дела как в военное, так и в мирное время.
Милиция в понятийном смысле является логической (не всегда конкретноисторической) противоположностью постоянной армии. Основной признак милиции может быть выведен путем антитезирования специфических признаков постоянной армии и отбора такой характеристики, которая была бы органически присуща всем без исключения конкретно-историческим военным организациям или их частям, не подводимым под понятие «постоянная армия». Если это так, то, возможно, основным признаком различных милиционных форм является их негосударственный (общественный, самоуправляющийся) характер? Нет. Всякая негосударственная организация является милиционной (военная организация первобытной общины, повстанческие формирования эксплуатируемых классов, народные ополчения и т.п.), но не всякая милиция выступает негосударственной силой. Швейцарская милиция, прусский ландвер, национальная гвардия США, казачьи войска в императорской России – все это государственные разновидности милиции. Невооруженность специальными средствами и орудиями «человекоубойной промышленности» (антитеза второму признаку постоянной армии) тоже не может служить главным признаком милиционных формирований. Они могут быть и вооруженными, и частично (после войны) разоруженными, и полностью невооруженными (например, оборонные общества).
Разграничительная линия между постоянной армией и милиционными формированиями проходит по иному основанию – по глубине военно-функциональной специализации, степени приближения к мирному материальному производству или, наоборот, отрыва от него. От постоянной армии милиционные формирования отличаются своим конверсийным, дифункциональным характером. Другими словами, милиционными можно назвать те элементы (силы, средства, составные части) военной организации, которые с окончанием войны целиком превращаются в непосредственную производительную силу или сочетают в условиях мира военные и невоенные (прежде всего, хозяйственные) функции.
Современные военные организации большинства стран мира строятся на основе сочетания военно-специализированных и милиционных форм при главенствующей роли первых и вспомогательной роли вторых. Яркий пример тому – военная организация США, наиболее милитаризированной страны современного мира. Там постоянная армия традиционно дополняется Национальной гвардией – милиционной группировкой войск резерва, развертывание которой измеряется не днями, а часами. В мире есть и военные организации, основу которых составляют милиционные формы. Примером может служить нейтральная, не участвующая в военных блоках Швейцария, армия которой именуется милиционной, поскольку совпадает с взрослым мужским вооруженным населением страны. Близки к такой модели обеспечения обороноспособности Швеция, Норвегия, Финляндия. Из стран, именующих себя социалистическими, милиционные формы наиболее развиты в Китае, на Кубе и во Вьетнаме.
Несмотря на упразднение старого казачества как одной из форм милиционного строительства, Советский Союз никогда не расставался с другими милиционными формами развития военной организации общества. Среди них: милиционные формирования, обеспечивающие охрану общественного порядка и безопасности (милиция внутренних дел, сторожевые контингенты правоохранительных органов, а также внутренние войска); территориально-милиционные части армии – милиционная подсистема системы обороны страны, существовавшая в СССР в 20-е и 30-е гг.; гражданская оборона СССР; массовые организации, осуществлявшие вневойсковую подготовку граждан к защите Отечества (ДОСААФ); иррегулярные народные формирования, которые вели вооруженную борьбу с агрессорами за пределами регулярной армии (ополченческое и партизанское движение во время Великой Отечественной войны); трудовые части армии (трудармии, участвовавшие в восстановлении народнохозяйственных объектов после Гражданской войны, строительные войска 40–80-х гг., автобатальоны, помогавшие собирать урожай на недавно освоенных целинных и залежных землях) [Шатило 2013: 95-101].
Не все отечественные теоретики соглашаются с отнесением только что перечисленных структур к числу милиционных. Им кажется, что относятся к этому числу лишь территориально-милиционные части армии, которые существовали в СССР с 1924 по 1939 гг. и были переведены в разряд регулярно-кадровых накануне Второй мировой войны. По окончании войны территориально-милиционная подсистема в нашей системе обороны восстановлена не была. Против милиционнотерриториального принципа комплектования армии выступал К.Е .Ворошилов: «Исключительная мощь современной техники, трудность овладения ею, усложнение всей системы военного обучения, при условии, когда войны ныне не объявляются, а внезапно начинаются, – делают на данном этапе территориальномилиционную систему комплектования Красной Армии не соответствующей задачам и интересам нашей обороны. Отсюда устарелость прежних установок, необходимость перехода к кадровой системе комплектования с учетом всех особенностей хозяйственного и политического развития страны» [Ворошилов 1950: 42-44].
«Переворот», осуществленный Ворошиловым в марксистско-ленинской теории оборонного строительства, породил ряд устойчивых стереотипов, не изжитых, к сожалению, до сих пор. О том, что эти стереотипы КПСС не смогла изжить до конца своего существования, свидетельствует негативная реакция высокопоставленных военных работников СССР на изданные автором этих строк статьи в философских журналах и монографию «Проблема замены постоянной армии милицией в марксистско-ленинской концепции разоружения» (1988 г.). Люди, «высказывающие идеи о профессиональной армии, альтернативной службе, национальнотерриториальных формированиях, использовании возможностей территориальномилиционной системы и прочие “крамольные” мысли, чуть ли не предавались анафеме» 1 . Прошло совсем немного времени, и некоторые идеи нашего исследования оказались включенными в проект военной реформы.
Началось и возрождение казачества, и сегодня мы уже обсуждаем вопрос о восстановлении казачьих войск в системе обороны Российской Федерации.
По вопросу о возрождении казачьих формирований идут острые споры, в которых сталкиваются противоположные позиции. Первая: нельзя идти на вооружение казачьих общин, поскольку это приведет к росту преступности и рисков социальной нестабильности. Вторая: создавать казачьи войска нужно за счет целенаправленного призыва членов Союза казаков в избранные части регулярной армии, добиваясь со временем преобладания этих призывников; это, мол, и будут казачьи войсковые части. Третья позиция: воссоздавать иррегулярные казачьи войска надо в точном подобии с тем порядком, который существовал в императорской России. Достаточно переиздать старый устав, например, донского казачества, и действовать так, как там написано.
Ни одна из этих позиций не выдерживает критики. Невооруженное казачество несет на себе печать неподлинности, театральности. Регулярные части, укомплектованные членами Союза казаков, не являются казачьими частями, поскольку полностью утрачивают черту иррегулярности. В то же время иррегулярность – это вовсе не недостаток, а определенная позитивная ценность для милиционных формирований. Ее сущность заключается в более тесной связи с гражданским населением, в сочетании военных и невоенных функций в условиях мира, в большей мобильности и т.д. Казацкие части в мирное время должны быть иррегулярными. Но воссоздавать их надо не путем простого копирования досоветского, имперского опыта, а с использованием всего ценного, что внесла в теорию и практику милиционного строительства советская власть, в частности некоторые черты и элементы создания и функционирования территориально-милиционных соединений 1924– 1939 гг. и гражданской обороны послевоенного времени.
Противники развития милиционной подсистемы в системе безопасности и обороны страны ссылаются на негативный опыт использования «народной милиции» во вред делу социального прогресса и демократии – например, на фашистские штурмовые отряды в гитлеровской Германии, на банды боевиков на Ближнем Востоке и Северном Кавказе, на УПА и «силы самообороны» бандеровцев в Украине, «эскадроны смерти» в ряде государств Латинской Америки и т.д. То, что эти формы разбросаны по всему миру и используются самыми различными политическими силами, свидетельствует лишь о том, что изменяющееся динамическое соотношение постоянных армий и народной милиции (или ее суррогатов) составляет всеобщую закономерность развития военной организации общества. Эту закономерность пытаются использовать в своих интересах и прогрессивные, и регрессивные силы, но очевидно и естественно, что именно социалистические и подлинно демократические силы имеют возможность в полной мере воспользоваться милиционными формами из-за их близости к народной самоорганизации – близости, переходящей в полное единство.
Для примера сошлемся на опыт использования милиционных форм противоположными силами в Украине. Ведущим участником февральского антиконституционного переворота 2014 г. были национал-социалисты, под влиянием которых активно действовали полувоенные организации: УНА-УНСО, «Тризуб», «Братство», «Общее дело», «Белый молот», «Правый сектор» и др. На основе «сил самообороны» Майдана выросла Национальная гвардия, закон о создании которой был принят Верховной радой 13 марта. Она состоит из добровольческих территориальных батальонов. Ее продекларированные цели: охрана порядка, охрана границ и борьба с последствиями стихийных бедствий. Однако, руководимая людьми с бандеровской идеологией, она может сделаться на Украине тем, чем были в Германии фашистские штурмовые отряды. Начав с запретов и ограничений по отношению к русскому языку, нелегитимная власть и ее полувоенные формирования быстро перешли к погромам русского населения восточных и южных областей, выражающих недовольство политикой неофашистов.
Воля населения территорий, восставших против нелегитимной киевской власти, реализуется тем успешнее, чем лучше протестующий народ самоорганизован, в т.ч. и в военном отношении. И тут важно заметить: простейшие структуры народной самообороны возникают в виде милиционных формирований. Так, вооруженные силы республики Крым выросли из сил самообороны, к которым стали примыкать казаки, прибывающие из других областей России и переходящие на сторону крымчан подразделения украинской регулярной армии. Ко дню народного референдума (16 марта) силы самообороны Крыма насчитывали уже 10 тыс. чел. В их числе – приведенный к присяге 15 марта крымский казачий полк им. Бакланова. Аналогичные процессы протекали и в других протестующих областях. В Донецкой и Луганской обл. стихийно сформировалось народное ополчение. Десятки районных центров Донецкой и Луганской обл. создали местные силы самообороны. Усиливается тенденция объединения этих сил в масштабе всей Новороссии (этим именем со времен Потемкина и Суворова обозначались юго-восточные области России, примыкающие к российско-турецкому пограничью). Так действует всеобщая закономерность: военная организация нового типа зарождается, как правило, в милиционных формах, а в зрелом виде упрочившееся государство, как правило, сочетает регулярную армию и народную милицию.
В современных условиях РФ казачество все больше и больше берет на себя роль народной милиции. С 2012 г. существует Союз казаков России, действующий под эгидой президента России. До сих пор Союз казаков России выполнял преимущественно культурно-воспитательные функции. Казачьи иррегулярные территориальные формирования в целях обороны страны не создавались. Воссоединение Крыма с Россией послужило поворотной точкой и в этом отношении: крымский казачий полк вошел в состав Внутренних войск России, т.е. стал общепризнанным милиционным компонентом системы обороны страны. Возрождающееся казачье движение стремится воссоздать территориально-милиционную подсистему системы безопасности и обороны страны. Такая подсистема существовала и в императорской России, где казачьи войска официально функционировали в 11 областях, и в Советском Союзе (в виде территориально-милиционных дивизий, созданных после Гражданской войны в большинстве областей СССР и просуществовавших до Второй мировой войны). Они полностью оправдали себя – и в годы войны, обеспечивая развитие наших вооруженных сил до размеров «вооруженного народа», и в годы мира, когда страна превратилась в «единый трудовой лагерь». Территориально-милиционная подсистема – это сторона народной самоорганизации, необходимая как для войны с врагами Отечества, так и для борьбы с разрушительными силами природы.
Список литературы Спорные вопросы идентификации казачьего движения
- Ворошилов К.Е. 1950. Сталин и Вооруженные Силы СССР. М.: Воениздат МО СССР. 97 с
- Гумилев Л.Н. 1998. От Руси до России. М.: Сварог и К. 336 с
- Соловьев С.М. 1999. Сочинения. Кн. VIII. М.: Голос; Колокол-Пресс
- Шатило И.С. 2013. Отечественная история и концептология казачества: лекции, очерки, новеллы. М.: Спутник+. 196 с
- Дерюгин А. 1990. Военно-бюрократические игры. -Аргументы и факты. № 20. С. 6