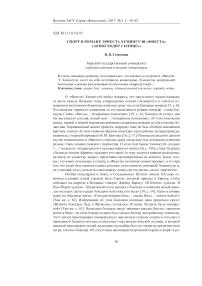Спорт в романе Эрнеста Хемингуэя "Фиеста" ("И восходит солнце")
Автор: Семенова Нина Васильевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье показаны причины, по которым все, что связано со спортом в «Фиесте» Э. Хемингуэя, несет на себе негативную коннотацию. В качестве центральной оппозиции в романе рассматривается оппозиция «коррида/спорт».
Спорт, бокс, чемпион, "универсальный лексикон", коррида, война
Короткий адрес: https://sciup.org/146122084
IDR: 146122084 | УДК: 821.111(73)-93
Текст научной статьи Спорт в романе Эрнеста Хемингуэя "Фиеста" ("И восходит солнце")
О «Фиесте» Хемингуэй любил говорить, что такую книгу можно написать за шесть недель. Вопреки этому утверждению, поиски «четвертого» и «пятого» измерения в англоязычной критике начались сразу после публикации романа [15, с. 6]. Что касается «первого» измерения, то его представил в романе эпиграф – слова Гертруды Стайн: «Все вы – потерянное поколение» [19, с. 6]. Хемингуэй создал, как бы мы сказали сегодня, новый мем – «потерянное поколение»; об этом поколении между первой и второй мировыми войнами создавались романы по обе стороны Атлантики. Карнавальный аспект (фиеста, коррида) тоже не был обойден вниманием критики, писали об этом главным образом советские и российские литературоведы, знакомые с теорией карнавала М. М. Бахтина [16; 2; 11]. Разница подходов в данном случае показательна: в «Фиесте» сплелись сразу несколько тем, которыми отмечены разные этапы хемингуэевского творчества. И если бой быков Хемингуэй «поднял <…> на высоту литературного и художественного опыта» [6, с. 144], а тему будущих «Зеленых холмов Африки» называет его герой, то тему спорта в первом своем романе автор по существу закрыл, представив противоречивые ее аспекты. Более того, все, что имеет отношение к спорту, в «Фиесте» негативно коннотировано, и это при том, что спорт был одним из самых сильных и постоянных увлечений Хемингуэя, и, не учитывая этого, нельзя по-настоящему понять ни его жизнь, ни его творчество.
Особая популярность бокса в Соединенных Штатах начала XX века отмечена в романе одной строкой. Билл Гортон, который приехал в Европу, чтобы побывать на корриде в Испании, говорит Джейку Барнсу: «В Штатах чудесно. В Нью-Йорке чудесно. Театральный сезон прошел с блеском, и появился целый выводок молодых светил среди боксеров полутяжелого веса» [19, с. 54]. Герои в романе ходят на боксовые матчи: «Сегодня вечером бокс, – сказал Билл, – хотите пойти?» [Там же, с. 62]. Информация об этом боксовом поединке дана предельно скупо: «Встреча боксеров Леду и Фрэнсиса состоялась 20 июня. Встреча была интересной» [Там же, с. 63]. Несколько большее место занимает рассказ Билла о заказном матче в Вене, где негр-боксер должен был сдаться белому австрийскому чемпиону. Этот эпизод приоткрывает коммерческую закулисную сторону спорта и отсылает к написанной Хемингуэем еще в школьные годы анекдотической истории, в которой нанятый менеджером злодей-дальтоник по ошибке бьет по голове во время матча не негра, а белого боксера. Об отсутствии настоящей спортивной борьбы говорят в ро- мане и участники велопробега «Вокруг Бискайи», французские гонщики: «Они так часто соревновались друг с другом, что было почти безразличто, кто победит в этом пробеге. Особенно в чужой стране. Финансовую сторону всегда можно уладить» [Там же, с. 177].
Дискредитации бокса способствует особым образом выстроенная лексическая эквивалентность, которая подтверждается смежностью слов в предложении и использованием союза «и»: «Я прошел мимо продавца прыгающих лягушек и продавца игрушечных боксеров» [Там же, с. 30]. Интерес Барнса к спорту подтверждается тем, что он от корки до корки прочитывает спортивный журнал, у него есть знакомые среди тренеров и спортсменов (сам Хемингуэй в Париже был спортивным корреспондентом канадской газеты «Торонто Стар»). Однако и здесь использование лексической эквивалентности создает эффект иронии. О своей консьержке Барнс сообщает, что всех посетителей она делила на тех, кто «хорошо воспитан, кто из хорошей семьи, кто спортсмен <…> Единственное неудобство заключалось в том, что люди, не относящиеся ни к одной из этих категорий, рисковали никогда не застать меня дома» [Там же, с. 43].
Отношение к боксу позволяет поделить персонажей романа на «своих» и «несвоих». Джейк Барнс, об автобиографизме которого много писали критики [4, с. 185–186], не боксирует; он только замахивается и тут же становится «живой боксерской мишенью». «Я не боксер», – говорит о себе симпатичный алкоголик Харви Стоун [19, с. 36], а Майкл Кэмбелл выражается еще более определенно: «Я не из тех, кто любит, чтобы их поколачивали. Я даже ни в какие игры не играю» [Там же, с. 144]. На этом фоне особое значение приобретает то, что единственный боксер в романе, Роберт Кон, – герой мало симпатичный, он не «свой», не исповедует стоического кодекса Хемингуэя и его любимых героев, бокс не входит для Кона в систему «самозакаливания». «Он не имел склонности к боксу, напротив – бокс претил ему, но он усердно и не щадя себя учился боксировать, чтобы избавиться от робости и чувства собственной неполноценности, которое он испытывал в Принстоне, где к нему как к еврею относились свысока» [Там же, с. 7]. И опять отметим несовпадение героя с прототипом, Гарольдом Лебом, во всем, что касается бокса. Леб не был боксером, о чем писал в своих воспоминаниях: «Теперь, тринадцать лет спустя, мне казалось, что пусть уж лучше я сам буду боксировать, чем наблюдать, как это делают другие. Хему же в боксе нравилось все, от начала до конца» [5, с. 140].
Кон – техничный боксер, он «очень ловок», и этому обстоятельству посвящен отдельный пассаж: «Он был лучшим учеником Спайдера Келли. Спайдер Келли обучал всех своих учеников приемам боксеров веса пера, независимо от того, весили ли они сто пять или двести пять фунтов» [19, с. 7]. Боксеры веса пера – весовая категория от пятидесяти одного до пятидесяти четырех килограммов, тогда как о Коне сообщается, что он чемпион в среднем весе. Что касается тренерской манеры Спайдера Келли, то Спайдер просто опередил свое время, теперь так тренируются и боксеры тяжелого и полутяжелого веса, в профессиональном и любительском боксе. Сам же Хемингуэй, по свидетельствам современников, был «файтером» и определил это понятие из боксерского жаргона, вынеся его в примечание в рассказе «Пятьдесят тысяч»: «Файтер – боксер, действующий не столько искусством, сколько силой удара» [17, с. 217].
Особенно настойчиво фиксирует автор чемпионство своего героя, трижды повторяется, что Роберт Кон был «чемпионом бокса». Означает ли это, что Хемингуэй, который всегда хотел стать чемпионом, в Роберте Коне создал отрицательную проекцию самого себя? Автор «Фиесты» смолоду хотел стать «хорошим боксером», «жестким парнем» [6, с. 145], и непременно чемпионом. Не без иронии писал о чемпионстве Хемингуэя американский журналист Джед Кайли. В 20-е годы произошла его встреча с Хемингуэем в Париже, которой предшествовало фронтовое знакомство. «Ничуть не изменился, подумал я. И припомнил, что в свое время он увлекался любительским боксом. Уверял, что когда-нибудь станет чемпионом мира в классе тяжеловесов. И, возможно, добился бы своего. Небось ранение эту мысль из головы ему вышибло, думал я.
«– Все еще в чемпионы метишь? – спросил я.
– Да, – ответил он. Но только не в боксе.
– В борьбе? – сказал я.
– Нет, – сказал он.
– Так в чем же?
– В литературе» [3, с. 543].
В 30-е годы Кайли сопровождал Хемингуэя в поездке на остров Бимини и оставил зарисовку состоявшегося там матча: 35-летний Папа боксировал с молодым претендентом-туземцем. И теперь уже Кайли проводит параллель между боксом и литературой: «И надо ему было лезть в литературу! Мог бы стать чемпионом мира и потом открыл бы бар. Как и прочие чемпионы» [Там же, с. 219]. Описывая восторг местных жителей, приветствовавших Папу-фаворита, Кайли не забывает зафиксировать реакцию Хемингуэя на происходящее: «И видно было, что все это ему очень нравится. Он всегда хотел быть чемпионом и получал от всего происходящего огромное удовольствие» [Там же, с. 216].
Хемингуэй неоднократно сравнивал занятия боксом с занятиями литературой. Лилиан Росс приводит высказывание уже прославленного писателя в конце 40-х годов: «Никогда не считал себя гением, но буду по-прежнему отстаивать свой титул перед всеми хорошими писателями из молодых. – Он пригнул голову, выдвинул вперед левую ногу и несколько раз имитировал удар слева и справа. – Никогда не позволяй нанести тебе сильный удар, – сказал он» [10, с. 393]. Тут же дается сравнение труда писателя с велогонкой: «Хемингуэй уселся на диван вместе с мистером Скрибнером и стал жаловаться ему, что во время работы над книгой ему пришлось нажимать, как гонщику на шестидневной велосипедной гонке» [Там же]. Рассказывая Уильяму Сьюарду о своих писательских привычках, Хемингуэй сделал следующее признание: «Сейчас ты не видишь во мне писателя , но, когда я начинаю писать, я уже не занимаюсь ничем другим. Я как подающий в бейсболе, я там, чтобы выиграть. И каждую минуту настроен только на победу» [14, с. 426].
О том, что «это была его любимая метафорическая форма разговора о литературе» [Там же], свидетельствуют и другие уподобления литературы спорту. В разговоре с Морли Каллагэном Хемингуэй сравнил с боксом манеру письма Достоевского: « Вы знаете Гарри Греба? Он имел в виду знаменитого боксера, чемпиона среднего веса, который работал руками наподобие ветряной мельницы. – Так вот, Достоевский пишет совершенно так же, как дерется Гарри Греб. Он обрушивается на вас со всех сторон. Вот так! И тут же на улице начал боксировать с воображаемым противником» [4, с. 118]. Подыгрывая Хемингуэю, который заявил, что собирается победить в «восьмираундовой встрече», Кайли спрашивает его о «вещице на восемь раундов», которой оказывается роман «И восходит солнце» [3, с. 156].
Джон Дос Пассос писал о Хемингуэе, что «его знакомство с боксерами-профессионалами и знание жаргона полицейских протоколов <…> позволили ему вы- работать лексикон, сообщавший его рассказам выпуклость и точность» [1, с.171]. Можно предположить, что бокс дал писателю кроме того универсальный язык, годный и для описания военной тактики, и для разговоров о литературе. Об этом свидетельствует история, рассказанная Джозефом Нортом, встречавшимся с Хемингуэем в Испании. «Снаряды летят оттуда, – сказал Хемингуэй, показав рукой на север. – Я на северо-востоке, номер угловой. Вот смотрите, – он встал в позу боксера, слегка наклонившись и прижав подбородок к груди, – им в меня не попасть, ясно? Ну-ка попробуйте. Я сделал выпад. Хемингуэй увернулся от удара. – Вот видите! – восхищенно произнес он» [8, с. 293]. Использование языка, замешенного на спортивном жаргоне, было в духе времени. Только в этой атмосфере эпохи могло родиться сравнение, к которому прибегнул Г. Мэттьюз в своих журналистских заметках: «ветер, словно чемпион по боксу, бил и выколачивал душу» [7, с. 280–281].
В 20-е годы спорт перестал быть привилегией аристократов и рантье, которые занялись меценатством во всех крупных европейских столицах. Произошла демократизация спорта, и бокс был на пике популярности. Париж приобретает репутацию самого спортивного города в мире. Многие американские и канадские писатели и журналисты боксировали, встречаясь в Париже. Хемингуэй ходил по Парижу с сумкой, в которой лежали боксерские перчатки и спортивная обувь. В то время он научил боксировать Эзру Паунда, открыл «некоторые аспекты спорта» Дос Пассосу, с которым тогда дружил. Владевшая в Париже книжной лавкой «Шекспир и компания» Сильвия Бич вспоминает о «просвещении» на боксовых ночных поединках, куда водил бывшую в положении жену Хэдли и приятельниц по книжной лавке «профессор» Хемингуэй, который знал о боксе все.
И опять нельзя не задаться вопросом: как случилось, что в мире романа спортивная составляющая парижской жизни Хемингуэя оказалась предельно редуцирована? Самое простое объяснение можно дать исходя из слов Роберта Мак-Э-лмона: «До своего отъезда из Парижа Хемингуэй очень увлекался боксом. Когда он шел в кафе, он обычно подпрыгивал, губы его шевелились, поддразнивая воображаемого противника. Вернувшись из Испании, он сменил амплуа боксера на роль участника корриды. Он постоянно занимался упражнениями с воображаемой мулетой и шпагой» [6, с. 145]. Однако, как запомнил Линкольн Стеффенс, такой резкой разграничительной линии не было: «Идешь, бывало, с ним по улице, а он непрерывно то с кем-то боксирует, то будто тащит рыбу из воды, то изображает тореадора – и все его движения безошибочны. В Париже, где к чудакам относятся благожелательно, люди только улыбались, глядя на высокого красивого молодого человека, застывшего в боевой стойке против кого-то невидимого» [Там же, с. 108]. О том, что интерес к боксу у Хемингуэя не прошел со временем пишет А.Е. Хотч-нер, встречавшийся с писателем в Гаване в 1948 году. «Два фильма Эрнест любил больше всего: матч бокса между Тони Зейлем и Роки Грациано и «Убийцы» с Бертом Ланкастером и Эвой Гарднер. Вначале шел бокс, за которым Эрнест внимательно следил и активно комментировал, но через пять минут после начала «Убийц» он уже храпел» [20, с. 399]. В те годы он проповедовал, что нельзя ходить на плохие боксовые поединки, лучше хоть несколько раз в году увидеть хороший бой [10, с. 371].
Второе объяснение особой позиции автора по отношению к спорту в «Фиесте» можно дать исходя из того, что миф о Хемингуэе-спортсмене получил достаточно полное жизненное воплощение и не требовалось его подтверждения в литературе. Формированию легенды о Хемингуэе-боксере во многом способствовала наделавшая шума в Париже история. Во время матча тогда мало кому известный автор выскочил на ринг и нокаутировал чемпиона среднего веса; говорили, что тем самым он спас жизнь боксеру Траве. Впечатляющий портрет Хемингуэя на ринге оставил Каллагэн, который некоторое время был его партнером по тренировкам: «Все искусство профессионалов, все легенды, связанные с их именами, нашли, казалось, в нем свое отражение; его стойка, положение рук, пригнутый к груди и немного отведенный в сторону плеча подбородок производили сильное впечатление» [4, с. 184]. Однако тот же Каллагэн находил в боксерской технике Хемингуэя немало изъянов: «удар правой он рассчитывал правильно, но чуточку запаздывал», «неважно координировал удары» [Там же]. Младшему брату Листеру Хемингуэй говорил, что Хейвуд Браун заклеймил его как «плохого боксера». По словам Томаса Шевлина, боксировавшего с Хемингуэем на Бимини, «он оказался сильным боксером» [21, с. 209]. В том же ключе сделано признание Гарри Сильвестра: «Он любил бокс, я тоже. Думается, у нас обоих было несколько преувеличенное представление о наших боксерских способностях» [12, с. 207]. И , в конце концов, не важно, каким Хемингуэй был боксером. Важно другое: своей жизнью, как и творчеством, он утверждал «мужской миф» в литературе, сменивший миф о женственности натуры художника, утвердившийся отчасти под влиянием Оскара Уайльда [5, с. 139]. Дос Пассос писал об «очередной литературной влюбленности» Фицджеральда: «Спортсмен-стилист! Боксер и автор рассказов!» [1, с. 179]. То же впечатление произвел Хемингуэй в 50-е годы на кубинского писателя Лисандро Отеро: «Мне представлялась внутренняя борьба в нем между женским цивилизующим материнским мирком и мужским, спортивным, отцовским» [9, с. 437].
Можно предложить еще одно объяснение особого статуса спорта в романе – это соположенность корриды и спорта. Несмотря на то что некоторые из друзей Хемингуэя считали корриду спортом («ездили в Испанию на бой быков, отчасти из-за самого спорта, отчасти в поисках нужных слов», – писал о Хемингуэе Стеффенс [13, с. 109]), сам Хемингуэй в «Смерти после полудня» написал: «Бой быков – это не спорт. И никогда не задумывался как спорт. Это трагедия. Трагедией является смерть быка… В любом случае это не спорт. Это трагедия, и она символизирует борьбу между человеком и зверем» [18]. Только на войне и на корриде можно видеть насильственную смерть. «Спортсменский кодекс» – проигрывать достойно – неприменим на корриде; поверженного тореадора публика забрасывает подушками. И хотя в романе официант о смерти человека, которого забодал бык, говорит: «И все ради спорта, ради забавы» [19, с. 149], несовместимость корриды и спорта передает одна деталь. Став частью праздничной толпы, Барнс и его спутники видят за столиками уличных кафе англичан и американцев из Биаррица «в спортивных костюмах» [Там же, с. 136]. Эти спортивные костюмы, несовместимые с атмосферой карнавала, еще раз возникают в описании последнего дня фиесты: «Приезжих поглощала толпа. Потом их уже не было видно, и только кое-где среди крестьян в черных блузах, густо облепивших столики кафе, мелькали их столь неуместные здесь спортивные костюмы» [Там же, с. 155].
Дважды в романе коррида сравнивается с войной. Первый раз это происходит, когда герои ведут разговор о том, можно ли заключать пари на бой быков.
«– Можно, – сказал Билл, – только не нужно.
– Это все равно, что держать пари на войну, – сказал я. – Здесь не требуется материальной заинтересованности» [Там же, с. 76].
В другой раз речь заходит о том, сколько продолжался смертельный трюк с выгоном быков на арену:
« – В конце концов волы загнали их, – сказал Майкл.
– Но это продолжалось не менее часа.
– В сущности, это продолжалось четверть часа, – возразил Майкл.
– Бросьте, – сказал Билл. – Вы же были на войне. Для меня это продолжалось два с половиной часа» [Там же, с. 151].
Гибридных образов. соединяющих корриду и спорт, нет в романе, если не считать сравнения быка с боксером: «У него левый и правый удар, как у боксера» [Там же, с. 106], – говорит Барнс. Случай сведения спорта и корриды (и, разумеется, неудачный) описал канадский писатель Каллагэн. Когда во время боксерского поединка у Хемингуэя были разбиты губы, он неожиданно плюнул кровью в лицо Каллагэну. «“Так поступают раненые матадоры. У них это способ выразить презрение”, – напыщенно произнес он» [4, с. 188]. Плюнуть кровью на противника на ринге – безобразный поступок, на арене – это карнавальный жест. Коррида и спорт оказались несовместимы в романе, как несовместимы в жизни этика спорта и эстетика карнавала.
Список литературы Спорт в романе Эрнеста Хемингуэя "Фиеста" ("И восходит солнце")
- Дос Пассос Д. Из книги «Лучшие времена»//Хемингуэй в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1994. С.171-181.
- Зверев А. М. Американский роман 20-30-х годов. М.: Худож. лит., 1982. 256 с.
- Кайли Д. Из книги «Хемингуэй. Воспоминания старого друга»//Хемингуэй в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1994. С. 153-163; 211-221.
- Каллагэн М. Из книги «Тем летом в Париже»//Хемингуэй в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1994. С. 112-119; 182-189.
- Леб Г. Из книги «Вот так это было»//Хемингуэй в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1994. С. 138-142.
- Мак-Элмон Р. Из книги «Все мы были тогда гениями»//Хемингуэй в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1994. С. 143-152.
- Мэттьюз Г. Из книги «Становление корреспондента»//Хемингуэй в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1994. С. 278-290.
- Норт Д. Из книги «Нет чужих среди людей»//Хемингуэй в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1994. С. 293-295.
- Отеро Л. Хемингуэй//Хемингуэй в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1994. С. 437-439.
- Росс Л. Портрет Хемингуэя//Хемингуэй в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1994. С. 361-394.
- Семенова Н. В. Карнавал в романе Эрнеста Хемингуэя «Фиеста» («И восходит солнце»//Родная словесность в школе и вузе: межвуз. сб. науч. тр. Тверь: Тверской ун-т, 2009. С. 127-134.
- Сильвестр Г. Из книги Дэвиса Брайана «Подлинная информация»//Хемингуэй в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1994. С. 207-208.
- Стеффенс Л. Из книги «Автобиография»//Хемингуэй в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1994. С. 108-110.
- Сьюард У. Из книги «Мой друг, Эрнест Хемингуэй»//Хемингуэй в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1994. С. 423-432.
- Финкельштейн И. Л. В поисках исторической истины//Вопросы литературы.1965. № 4. С. 159-165.
- Финкельштейн И. Л. Хемингуэй-романист. Годы 20-е и 30-е. Горький: Волго-Вятское книжное изд-во, 1974. 216 с.
- Хемингуэй Э. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1981. 671 с.
- Хемингуэй Э. Смерть после полудня //hemingway-lib.ru.URL: http://hemingway-lib.ru/book/smert-posle-poludnya.html. (Дата обращения: 15.08.2017.)
- Хемингуэй Э. Фиеста (И восходит солнце). Старик и море. Рассказы. М.: ЭйДи-Лтд, 1994. 494 с.
- Хотчнер Л. Е. Из книги «Папа Хемингуэй»//Хемингуэй в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1994. С. 395-410.
- Шевлин Т. Из книги Дэвиса Брайана «Подлинная информация»//Хемингуэй в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1994. С. 209-210.