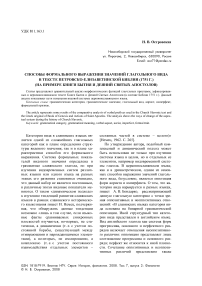Способы формального выражения значений глагольного вида в тексте Петровско-Елизаветинской библии (1751 г.) (на примере Книги Бытия и Деяний Святых Апостолов)
Автор: Островская Н.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет сравнительный анализ морфологических функций глагольных приставок, зафиксированных в церковнославянском тексте Книги Бытия и Деяний Святых Апостолов (в составе Библии 1751 г.). Данный анализ показывает пути изменения видовой системы церковнославянского языка.
Грамматическая категория, грамматическое значение, глагольный вид, аорист, имперфект, формальный признак
Короткий адрес: https://sciup.org/14736971
IDR: 14736971 | УДК: 811.163.1
Текст научной статьи Способы формального выражения значений глагольного вида в тексте Петровско-Елизаветинской библии (1751 г.) (на примере Книги Бытия и Деяний Святых Апостолов)
Категория вида в славянских языках является одной из сложнейших глагольных категорий как в плане определения структуры видового значения, так и в плане характеристики способов его формального выражения. Система формальных показателей видового значения определена в грамматике славянского глагола, но при изучении видовременных систем различных языков или одного языка на разных этапах его развития становится очевидно, что данный набор не является постоянным, в различные эпохи видовые показатели меняются. О таком «динамическом подходе» к изучению тенденций развития славянских языков в рамках славянского исторического языкознания пишет И. Немец, подчеркивая, что обнаружить данные тенденции возможно «лишь в том случае, если языковые факты сравниваемых синхронных плоскостей изучаются, во-первых, не статически, а динамически (т. е. с учетом постоянной борьбы, существующей между отмирающими и нарождающимися элементами), а во-вторых, не изолированно, а комплексно (т. е. с учетом постоянного взаимодействия отдельных элементов – составных частей в системе – целого)» [Немец, 1962. С. 265].
По утверждению автора, подобный комплексный и динамический подход может быть использован не только при изучении системы языка в целом, но и отдельных ее элементов, например видовременной системы глагола. В церковнославянском языке, как и в древнегреческом, одним из основных способов выражения значений глагольного вида, безусловно, является оппозиция форм аориста и имперфекта. О том, что категория вида варьируется в разных языках, пишет А. В. Бондарко, рассматривающий данную глагольную категорию с точки зрения оппозитивных и неоппозитивных отношений: «В славянских языках категория вида основана на бинарной грамматической оппозиции. Иной структурный тип категории вида представлен в английском языке. Вид английского глагола как система форм прогрессива, основного и перфектного разрядов включает отношения неоппозитивно-го различия: оппозицию представляет лишь соотношение прогрессива и основного разряда; перфект же относится к иной плоскости. Сочетание оппозитивных и неоппози-тивных различий представлено также
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 2: Филология © Н. В. Островская, 2008
в соотношении презентных, аористических и перфектных основ в древнегреческом языке» [Бондарко, 1983. С. 9].
Такое же неоппозитивное различие глагольных основ представлено и в церковнославянском языке. Оппозиция же, выражающая собственно глагольный вид, т. е., по определению И. Немеца, «способность глагола выражать действие как совершенное (целостное, комплексное) или как несовершенное (нецелостное, некомплексное)» [Немец, 1962. С. 265], передается с помощью основ презенса и аориста. Данный способ передачи видовых значений является центром видовременной системы церковнославянского глагола, поскольку каждый глагол, выражающий действие в прошедшем времени, стоит либо в форме аориста, либо имперфекта, реже - перфекта. Употребление перфектных форм в изучаемых нами церковнославянских текстах контекстуально ограничено формой 2-го лица ед. числа.
Подобное «обязательное» употребление форм аориста и имперфекта соотносится с употреблением форм совершенного и несовершенного вида в современном русском языке, которые Анна А. Зализняк и А. Д. Шмелёв характеризуют как грамматическую категорию. Авторы отмечают, что поскольку вид в русском языке является грамматической категорией, то его выражение обязательно, т. е. любой глагол в предложении «мы должны употребить в форме совершенного или несовершенного вида - даже если мы не имели в виду передать ни один из тех смыслов, которые могут выражаться категорией вида» [Зализняк, Шмелёв, 2000. С. 1]. Подобной грамматичностью, безусловно, обладают и формы прошедших времен в церковнославянском языке, прежде всего формы аориста и имперфекта, поскольку, относя действие в план прошлого, говорящий или пишущий должен был употребить глагол в форме одного из указанных прошедших времен.
Сложность изучения видовременной системы церковнославянского глагола заключается в ее неоднородности с точки зрения способов выражения видового значения, в то время как определение самого значения остается практически неизменным как для современного русского языка, так и для церковнославянского. Достаточно сравнить те признаки, которые выделяют различные исследователи при определении совершенного и несовершенного вида с признаками аориста и имперфекта.
Признаки несовершенного вида: длительность, процессуальность, кратность, узуальность действия.
Признаки имперфекта: длительность действия; неопределенная длительность единичного или повторяющегося действия, повторяемость действия, обычность действия.
Признаки совершенного вида: сосредоточенность на пределе в протекании действия, непротяженность / недлительность действия, комплексность, целостность, сосредоточенность, точечность действия, временная локализованность действия, определенность действия по отношению к протеканию во времени, результативность действия, начина-тельность действия, законченность действия, переход в новое состояние.
Признаки аориста: предельность, ограниченная длительность, нерасчлененность, целостность, суммарность, собирательность, сосредоточенность, точечность действия, фактичность действия, результативность действия, законченность начального момента действия, законченность, наступатель-ность, одноактность действия.
Сравнение всех вышеуказанных признаков, взятых из определений, сформулированных разными исследователями, показывает, что речь идет практически об одних и тех же значениях, но выраженных различными способами.
Кроме форм аориста и имперфекта, в церковнославянском языке существует набор глагольных приставок, также способных передавать видовые значения. Данный способ является основным в современном русском языке. Характер соотношения двух вышеуказанных способов передачи видовых значений в пределах одного текста становится доступным для анализа при сопоставлении приставочных и бесприставочных глагольных форм церковнославянского языка. Подобное соотношение можно представить на примере нескольких бесприставочных глаголов, имеющих в изучаемых нами текстах Книги Бытия и Деяний Святых Апостолов приставочные соответствия: уМё - ТТуПоё , П|Е№ё ; аавё - паавё , Ааа1е , Тдаaa•ё . ^дiaa•ё . ТдТааНё . ПёйНасе - иейШаЬё ; пТадЕеёНё ; паадёве .
Форма аориста глагола аёИё зафиксирована в изучаемых текстах 61 раз. Она может передавать греческую форму аориста либо перфекта от глагола 8г8орг ‘дать’, форму аориста от греческого приставочного глагола апо-ка0готпЦ1 со значением ‘возвращать’. В древнегреческом языке приставка ало- имеет значение удаления от чего-либо. Кроме того, форма аориста глагола aaдё переводит соответствующу форму глагола т10пЦ1 ‘класть, полагать, ставить’, которая встречается в следующем контексте: ЁOaaaa2 y5YTa toflaxo ia дflё2a^ёOБ. 42. 17), что соответствует современному выражению отдать под стражу. Форма aa1u переводит греческую форму аориста пер1£0пка от глагола пер1-тг0пЦ1 ‘налагать, надевать’: Ё aaflu а4 uLaflyOe, ёЬ^аТу»1у ia floflE ay2 (Б. 24. 47). Кроме того, аорист aaaa2может переводить форму паp£бюкev от глагола пара-бгбюр1 ‘передавать’: Dara2xa Qiaaflu nu1o naTai o2 тдT2пia^2 axa nflTflw wiflEflu а6ё2п ra1T; AOu xa flara2axa aaaa2aag aau daTfl YflaaT i ITp (Б. 27. 20).
Эту же греческую форму может передавать и аорист приставочного глагола Yflaaaaa2 от глагола Yflaaaдё : eLalagaiu адв auHiie, ё*а Yaaaaaa2 паp£бюкev) aflaae2daTyOTTa flofle дааЕ^ Б. 14. 20), но данный глагол может передавать и форму eneTpe^sv от греческого приставочного глагола eni-трепю ‘вверять, предоставлять’: ЁО Yflaaaaa2
anyOeп£тpeфev пavта), SLb6Hi au0a 5162au flofle (wneowau (Б. 39. 6). Близкое значение передается глаголом Yдёaaдё: ЁО garadU Yale ёЛ eL flTae2 nula adTflaflT Mwa6 ё fla?a2 $ai62uL3u*a aag yflw laiaaeaeia a®u, ё1 Yfleaaaal 1ё eL naaT2 (каг пpоо£бtoкev) (Б. 29. 33). Здесь употреблена форма аориста от греческого глагола лроо-8г8юрг ‘придавать, прибавлять’.
Приставка А- также находит свое греческое соответствие: форма AaaaS2п ереводит греческие формы ап£быкеу, апебото , вторая из которых является формой медиального аориста от глагола апо-бгбюр1 ‘отдавать, возвращать’: ЁOflёyfly a62ёLAaaaa2ёia1u Mwao YatealndaT naTa2 (апебото бе Ноаи та прототок1а тф 1акюв) (Б. 25. 33). Этот греческий глагол переводится на церковнославянский язык и глаголом 'iflTaade , например: ё1 YflTaa0a (ап£боvто ) Qvfleda аBaflёдy iwi u ia aaaaanyдu $ёaд^ё1u
(Б. 37. 28); Iaaia16 xa YflTaala (ап£боvто ) Qufeoa aT aHiladu (Б. 37. 36). Очевидно, что контексты здесь одинаковы, в другом контексте аорист YflTaaaa2 переводит форму пeпpакev от лглраакю ‘продавать’.
Церковнославянский глагол с приставкой au- зафиксирован в тексте 4 раза, с его помощью переводятся греческие бесприставочные формы бебюка, £быкеу. В трех случаях форма аориста aaaaa2 встречается в сочетании aaaaa2au floflE , и в одном случае данный контекст лишь подразумевается : ЁOaa•a (Mwao aTfle roxauO (каг £бюкаv тф 1акюв тоЪд 0еоЪд тоЪд аХХо-трюиа exa ay1o au flofladu ё<Ъ (Б. 35. 4).
Формы аориста от глагола уй)ё переводят формы аориста греческого глагола £о0гю ‘есть’. В греческом тексте от данного глагола может образовываться как простой, так и сигматический аорист. В большинстве случаев форма аориста употребляется в сочетании с глаголом '|ёдё, образуя устойчивое единство, например: ЁOiiiafla•a flalaiia ё1 nTdaTfleia oT1i u: ё1 yLTHa, ё1 YeHa laiw ia 6T1iE2 (каг£фаYоv каг епюу) (Б. 31. 46). ЁOiiГдaT8ё2ёeu Yeiu, eLyLTHa eLYeea (каг £фаYоv каг £nwv) (Б. 26. 30). Употребляясь либо в ряду других форм, либо как отдельный глагол в простом предложении, форма аориста обозначает действие как факт в прошлом, без какого-либо указания на его продолжительность. Формы имперфекта от данного глагола встречаются только в двух случаях: в придаточном определительном предложении, а также в эпизоде, когда главный хлебодар рассказывает Иосифу свой сон. Здесь форма имперфекта употреблена в ряду форм настоящего времени и передает план настоящего исторического: ЁOaёaE noaflEfleeia xedaflfteu, y В двух контекстах форма аориста греческого приставочного глагола катеоОгу ‘съедать’ передается формой аориста глагола ТТуПдё, например: ёL TTyaTla паНы едаЯй zёйy eLooauy oEeanu2na6ii u ейаЗи aT18u6u аёЯПи ёL eLadafliuou oEeanu2 (Б. 41. 4), в трех контекстах – формой глагола й■EПдё, например: zaEOu ё^Яи niEaaKaHTK (Б. 37. 20). В данном случае имеет место соответствие приставочных и бесприставочных глаголов в греческом и славянском текстах. Аорист глагола Пёй0адё зафиксирован в текстах 22 раза, в десяти из них он передает соответствующую форму греческого глагола ¢koÚw ‘слышать’, а в двух – форму перфекта этого же глагола. Форма аориста глагола иЗйбадё встречается в текстах 14 раз, и только в трех контекстах она переводит формы греческих приставочных глаголов: в двух случаях – форму глагола ™pi-акоию ‘услышать’, например: ITi yio1$a азе йасёви, ёЗиПёйНа ^5аав, ё3Лаа!да ивдТАб ay2 (Б. 30. 22); в одном случае – форму аориста глагола e„s-akoÚw ‘слушать, внимать, слушаться’, например: иПёйба жа азе аёаПи шддТтада А iElda, ёЗБЖа ЗуЯЗ. (Б. 21. 17). Данный факт свидетельствует о том, что в славянском тексте приставка играет роль выражения видового значения глагола, а именно – значения совершённости, результативности действия, которое в греческом тексте передается в большинстве случаев только формой аориста. В анализируемых нами текстах отсутствуют бесприставочные формы глаголов йTЗйE0ёдё и паадёдё. но очевидно, что формы ЗйE0ёдё и аавёдё существуют и в церковнославянском, и в современном русском языках, поэтому данные глаголы могут быть приведены в качестве примеров, подверждающих, что глагольные приставки в церковнославянских текстах могут выполнять функцию видового форманта. Глагол йT38E0ёдё переводит греческий глагол ¢mart£nw ‘ошибаться, заблуждаться, грешить’, а глагол паадёдё - греческий глагол ›yw ‘варить’. В данной статье представлена небольшая часть глаголов, встречающихся в исследуемых текстах, но, даже исходя из этого фак- тического материала, можно сделать вывод о том, что категория вида, представленная в глагольной системе церковнославянского языка, неоднородна. В. В. Колесов отмечает важную черту в самой сущности грамматических категорий вида и залога, определяющую методологический подход к их изучению: «Это категории языка, – пишет ученый, – которые, постоянно изменяясь, никогда не завершают своего изменения, поскольку связаны непосредственно с самыми гибкими и изменчивыми категориями мысли, и факт постоянных преобразований вида и залога, отражающих в сознании человека объективную реальность бытия, свидетельствует о том, что язык активно развивается, что он по-прежнему «живой» и может служить человеку в его творческой деятельности. Одновременно это значит, что описывать категории залога и вида можно только в исторической перспективе их развития: на синхронном уровне эти категории внутренне противоречивы и точному описанию не поддаются, вызывая самые разные суждения и теории» [Колесов, 2005. С. 512]. Таким образом, в системе церковнославянского языка, представленной в изучаемых текстах, имеет место пересечение двух способов выражения видовых значений: с помощью противопоставления форм аориста и презенса, а также иных грамматических формантов, прежде всего, противопоставления приставочных и бесприставочных глаголов. Оба способа передачи видовых значений могут совмещаться в одной глагольной форме, создавая «дуб-летность формы». Примером такой дублет-ности может служить употребление глагола паадёдё в форме аориста: форма йаадё1вы-ражает видовое значение дважды, а именно – с помощью приставки и формы аориста. Приставки как способ выражения видового значения находятся на периферии глагольной системы церковнославянского языка. Глагольные приставки, часто соответствующие греческим, продолжают выполнять прежде всего лексическую функцию, но их роль в системе выражения грамматической категории глагольного вида меняется. Наличие глаголов с приставками, выражающими видовое значение, может служить одним из формальных критериев анализа церковнославянских и древнерусских текстов с целью определить тенденции развития видовременных систем данных языков в различные эпохи их существования.