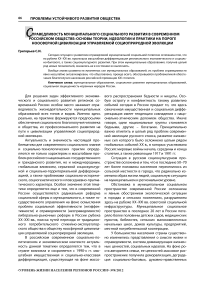Справедливость муниципального социального развития в современном российском обществе: основы теории, идеологии и практики на пороге ноосферной цивилизации управляемой социоприродной эволюции
Автор: Григорьев С.И.
Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal
Рубрика: Проблемы устойчивого развития общества
Статья в выпуске: 9 (175), 2012 года.
Бесплатный доступ
Сегодня ситуация с развитием справедливой муниципальной социальной политики осложнена тем, что на рубеже ХХ-XXI вв. произошла масштабная дифференциация регионального экономического и социально-бытового, а также социокультурного развития. При этом муниципальные образования, получив целый ряд новых полномочий, оказались не в состоянии их выполнять. Вообще анализ развитости жизненных сил муниципальных образований, их проблем справедливости явно масштабно актуализирован, что обусловлено, прежде всего, обострившейся проблематикой обеспечения благополучия населения российской провинции XXI столетия.
Муниципальные образования, социальное развитие муниципальных образований, социальная защищенность коренных народов России
Короткий адрес: https://sciup.org/143181958
IDR: 143181958
Текст научной статьи Справедливость муниципального социального развития в современном российском обществе: основы теории, идеологии и практики на пороге ноосферной цивилизации управляемой социоприродной эволюции
Для решения задач эффективного экономического и социального развития регионов современной России особое место занимает справедливость жизнедеятельности муниципальных образований всех типов и видов. Именно здесь реально, на практике формируются предпосылки обеспечения социального благополучия человека и общества, их профессионального развития на пути к цивилизации управляемой социоприрод-ной эволюции.
Актуальность и значимость настоящей проблематики для современного социального знания и социально-технологических практик определяются не только характером и масштабами проблем российского национально-государственного и гражданского развития, но и международным, глобальным влиянием, серьезной социокультурной и социально-территориальной дифференциацией, а также проблемами социально-исторического, социогенетического и повседневно-прагматического характера. Особое значение этой тематики определяется еще и тем, что в современной России осуществляется радикальная реформа социальной сферы и муниципального, а также государственного управления на фоне осмысления проблем социальной эффективности (неэффективности) и справедливости (несправедливости) либерально-рыночных реформ в России рубежа ХХ–XXI вв., поиска путей перехода от традиционного потребительского стихийно-эксплуататорского общества к обществу ноосферной цивилизации управляемой социоприродной эволюции.
В российском современном социально-политическом и экономическом контексте актуальность данной тематики определяется тем, что в стране возникла и сохраняется с 1990-х гг. масштабная имущественная и социально-классовая дифференциация, существующая на фоне массо- вого распространения бедности и нищеты. Особую остроту и конфликтность такому развитию событий сегодня в России придает то, что здесь означенная имущественная и социальная дифференциация имеет тенденцию совпадения с национально-этническим делением общества. Иначе говоря, одни национальные группы становятся бедными, другие – богатыми. Принципиально важно отметить и целый ряд проблем современной эволюции русского этноса, развитие жизненных сил которого было осложнено целым рядом глобальных событий ХХ в., в которых участвовала Россия: мировые войны начала, середины и конца столетия, а также революции 1917 и 1991 гг.
Ситуация в русском социокультурном пространстве осложнена и тем, что в последние 50–70 лет более половины населения переселилось из сельской местности в города, что радикально изменило образ жизни людей, социальную ситуацию на муниципальном и региональном уровне.
Обстановка в муниципальном социальном пространстве современной России осложнена и явным обострением экологической ситуации в городах и сельских поселениях, разрушением здесь на рубеже ХХ–XXI вв. советской социальной инфраструктуры. Муниципальное социальное пространство в последнее 20 лет в России потеряло более половины детских садов, медицинских пунктов, библиотек, сельских малокомплектных начальных школ, домов культуры, предприятий, местной потребительской кооперации.
У большинства населения страны существенно изменились представления о смысле жизни и справедливости, система доминирующих жизненных ценностей, социальных идеалов. На фоне роста авторитета семьи, ее ценностей массовое распространение получила деморализация, деградация социально-бытовых, духовно-нравственных отношений, которую не могло остановить и возрожденное православие – Русская Православная Церковь, где также возник новый кризис, связанный с интенсивным ростом численности храмов, количества их настоятелей и прихожан, масштабов их хозрасчетных, коммерческих отношений.
Ситуация с развитием справедливой муниципальной социальной политики осложнена сегодня еще и тем, что на рубеже ХХ–XXI вв. произошла масштабная дифференциация регионального экономического и социально-бытового, а также социокультурного развития. При этом муниципальные образования, получив целый ряд новых полномочий, не имея своего производства, значит, и своей налогооблагаемой базы, бюджета, оказались не в состоянии их выполнять.
Отрицательные последствия радикальных либерально-рыночных реформ в России 1990-х гг., неэффективная постреформенная политика стабилизации и модернизации административного управления и социальной сферы актуализировали, прежде всего, социально-бытовые и гражданские вопросы жизнедеятельности по месту жительства, на муниципальном уровне, в семейнобытовой среде.
Очевидно и то, что проблемы справедливости наиболее явно, остро встают сегодня в муниципальном социальном пространстве. Здесь и на уровне организации жизни различных типов поселений, и социально-территориальных сообществ, жизнедеятельности социально-демографических групп, имущественно дифференцированных социальных слоев, социокультурных и национальных общностей возникло большое количество не только традиционных для периодов реформ коллизий, но и новых масштабных проблем социального, экономического, политического, а также духовно-культурного и социально-экологического развития.
Особое значение в этой связи приобретает рассмотрение вопроса социальной защищенности коренных народов России, справедливость и обоснованность, актуальность постановки этого вопроса. В концептуальном, теоретико-методологическом плане данный круг вопросов существенно значим, актуален для рассмотрения, прежде всего, потому что культура социального мышления, концептуальные основания анализа справедливости современного муниципального развития в России, в мировом социально-территориальном и поселенческом пространстве, в личностном развитии получили новые теоретико-методологические основания. Они связаны, прежде всего, с формированием новой доминирующей научной картины мира, а также новых парадигм социологического мышления, развитием полипарадиг-мальности и монизма современного социогума-нитарного знания [1; 2; 3 и др.].
Системно-синергетическая научная картина мира, доминировавшая большую часть второй половины ХХ в., ориентировала социологию и социальную работу, культурологию и право, экономику и социальную педагогику, регионоведение и муниципальное управление в анализе проблематики муниципального развития на осмысление внутренней логики развития рассматриваемых систем в сочетании с влиянием внешних фактов и условий, среды ее обитания, пространства бытия. Растущее влияние диатропической картины мира акцентирует внимание на особенностях развития разных пространств материальной и духовной жизни, объединенных взаимосвязанными тропами, их силовым объединением.
На этой научно-методологической и мировоззренческой базе современная социология и теория управления с учетом специфики их парадигм и базовых интегративных оснований, формирующихся социальных метатеорий, влияния постмодернизма [3; 4; 5 и др.] к началу XXI столетия создали весьма разнообразную и разобщенную картину, которая осложняется цивилизационным сломом – начавшейся трансформацией потребительского стихийно-эксплуататорского общества в социум ноосферной цивилизации управляемой социоприродной эволюции. Такое развитие событий определяется не только растущими рисками, угрозой самоуничтожения человека в результате экологических, техногенных и военных катастроф, но и духовно-нравственной, социокультурной деградации, интеллектуального вырождения [6; 7; 8 и др.].
Не менее важно подчеркнуть и тот факт, что растущая глобализация, стандартизация, унификация социокультурных процессов и явлений уравновешиваются встречным процессом роста значимости национально-культурного разнообразия. В этой связи, отнюдь неслучайно то, что во второй половине ХХ в. на планете Земля возникло более 70 новых национальных государств, национально-государственное развитие стало характерным явлением противостоящим давлению глобализма мирового олигархата, центров влияния стран «золотого миллиарда».
После разрушения мировой системы социализма явно возрастает внимание к разработке новых справедливых форм организации общества, социальной жизни человека. И лидирует здесь, очевидно, ныне ноосферное видение жизни лю- дей на основе единения Разума и Духа, Культуры и Природы, требующих преодоления экономоцен-тризма, вульгарно-рыночных отношений, делающих критерием прогресса прибыль, утверждающих принципы жизни, где «все покупается и все продается». Ноосферное общество, его идеалы и справедливость требуют правил, адекватных законам природы и развития социальной культуры, где базовым критерием определения прогресса становится сохранение и совершенствование жизни человека как биопсихосоциального существа, обладающего определенным природным и социокультурным потенциалом, физическим, психическим и социальным здоровьем, профессиональной подготовкой, умением действовать во всех основных сферах общественных отношений [9; 10; 11 и др.].
Разум и Духовность ноосферного общества, уходя от стихийно-эксплуататорского потребительского общества, формирует совершенно новое жизненное пространство муниципальных образований, новый уровень и тип развитости жизненных сил человека, преодолевающего эко-номоцентризм и эгоизм стяжательства эпохи стихийно-эксплуататорских обществ. Это происходит, прежде всего, за счет формирования социально оправданных пропорций сочетания в обществе частной, кооперативной, корпоративной и государственной собственности, развития социального партнерства бизнеса, государственного управления и «третьего сектора», общественных организаций гражданского общества, активности и социальной культуры населения, коренных народов каждой страны. Здесь формируются новые смыслы и формы жизни, преодолевающие доминирование потребительства и гедонизм, порождающие социально-творческие стратегии деятельности объединений государственных органов и бизнес-сообществ [12; 13;14 и др.].
На основе и на фоне означенных трансформаций в обществе формируются, транслируются, используются различные трактовки, интерпретации справедливого и несправедливого, в том числе в контексте проблематики муниципального и регионального развития. Это характеризует не только тип общественного устройства, но и характер распространенных в данный исторический момент в определенном социально-историческом пространстве определений справедливости и несправедливости [15; 16; 17 и др.].
Это касается не только конкретных характеристик жизненных ситуаций как справедливых и несправедливых, а также действий, поступков людей, но и академических, концептуальных определений справедливости, соответствующих понятий, базовых категорий. На эту тему в условиях революционных трансформаций обычно публикуется большое количество не только публицистических материалов, но и фундаментальных трудов, теоретико-методологических изданий [18; 19; 20 и др.].
В этой связи вполне определенно обозначается как концептуальные различия трактовки справедливости, так и ее особенности, характер проявлений в конкретных региональных и поселенческих, социально-территориальных условиях [21; 22; 23; 24 и др.]. Так, например, в известной книге Дж. Роулса «Теория справедливости» в рамках социально-философской специфики анализа проблемы, она названа, с одной стороны, полезностью, а с другой – честностью [18 стр. 26–29]. В исходном плане концепция справедливости обобщает до более высокого уровня абстракции известную концепцию общественного договора, которую специалисты в этом вопросе обычно находят в трудах Локка, Руссо и Канта [18, стр. 25–30]. В современной России актуальность проблем справедливости обострена в последние 20 лет.
Почему сегодня в России вопрос о социальной эффективности и справедливости регионального развития стал одним из главных, ключевых для обеспечения стабильности и усиленной модернизации общества в контексте современных глобальных изменений и перспектив возрождения государства российского? Как и почему эта проблематика особо актуально выглядит, реально представляется, существует на Алтае?
Относительная стабилизация экономического и общественно-политического развития России в начале XXI в. после длительного кризиса, ломки общественных отношений 1980–90-х гг., поиск оснований нового возрождения страны, прежде всего, затрагивает регионы именно в контексте социальной эффективности и справедливости. Такая постановка вопроса обусловлена, прежде всего, тем, что в новых условиях относительное экономическое благополучие и рост, развитие бизнеса и государства, где правит крупный капитал, отнюдь не ведет автоматически к социальной эффективности и справедливости, благополучию большинства населения страны, его социальной безопасности. Масштабная экономическая и социальная дифференциация населения в регионах обостряет и усложняет, прежде всего, именно проблемы социальной эффектив- ности и справедливости, безопасности жизни людей, их социальной защищенности.
Алтайский край и Республика Алтай при всей оптимистической риторике и реальных позитивных изменениях последних лет продолжают оставаться среди наиболее бедных, социально и экономически слабых регионов страны, где реальная средняя заработная плата уже несколько лет колеблется в пределах 5–7 тыс. руб. В Сибирском федеральном округе она меньше только в Республике Тыва.
Огромные потери, которые они понесли в экономике и социальном развитии в 1990-е гг., не восполнены. И промышленность, и сельское хозяйство фактически оказались разгромленными более чем наполовину.
Экономическая и социальная слабость, неэффективность провинциальных регионов России, особенно в пограничных зонах, приобретает в перспективе первой половины XXI столетия особое значение и остроту. Здесь усиливается экономическое и информационно-технологическое, коммуникационное присутствие наших соседей, их социокультурное влияние. На фоне слабости контроля над социальной эффективностью и справедливостью развития российских пограничных территорий здесь явно обостряются проблемы национально-государственной безопасности.
Особенно остро настоящая проблематика заявляет о себе сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке. В 1990-е гг. потеря контроля государства за использованием ресурсов, приграничной торговлей, миграционными потоками фактически поставила нас перед угрозой утраты целого ряда приграничных территорий, их социальной и экономической деградации.
Особую остроту здесь приобрела проблема распространения социальных болезней, демографического вырождения, что многократно обостряет не только проблемы экономической, но и политической, в целом социальной и национально-государственной безопасности. Ее обостряет слабость регулирования миграционных потоков, которая в перспективе, очевидно, станет еще более масштабной, особенно в контексте развития сотрудничества с Китаем.
Социальная эффективность развития провинциальных регионов России, особенно Сибири, в значительной мере продолжает быть связанной с доминированием сырьевых стратегий их развития. Сибирь продолжает инерционно оставаться сырьевой базой страны. И все это несмотря на то, что очаги инновационного, опережающего разви- тия здесь были созданы еще в советские времена. Достаточно напомнить историю создания и развития Новосибирского Академгородка, бывшего в СССР центром развития науки, образования и технологий фактически для всей территории страны за Уралом.
Активно развивался многие годы Томск, Красноярск и Владивосток как научно-образовательные и технологические центры. Мощно продвинулась вперед за последние 25–30 лет Тюмень, опираясь на энергосырьевой фундамент своего развития.
И, тем не менее, эти очаги инновационного развития, их социальная, образовательная база, созданная еще в советские времена, не была запущена как механизм саморазвития инноваций, технологического обеспечения экономического роста и социальной эффективности развития регионов, общества в целом. Более того, в 1990-е гг. по таким очагам в Сибири был нанесен мощный, поражающий удар – сокращено государственное финансирование подразделений РАН, вузовских лабораторий и кафедр, ведущих научные, технологические и инженерные разработки. Как следствие, база, кадровый потенциал социальной инфраструктуры научно-технологического, инновационного развития сибирских регионов в значительной мере был разрушен, ослаблен. Один показательный пример в этой связи: за 15 лет с 1990 по 2005 гг. количество кандидатов и докторов наук в Новосибирском Академгородке сократилось почти на 80%.
Стратегически это направление инновационного развития регионов Сибири, как и большинства других территорий страны, было ослаблено еще и тем, что падение престижа научного работника, преподавателя высшей школы в обществе, их низкая заработная плата масштабно сократили приток молодежи на работу и в науку, и в высшую школу. При этом усилилась эмиграция научных кадров, интеллектуальной элиты из сибирской глубинки, из областных и краевых центров Сибири, население которых стало восполняться, главным образом, за счет притока бывших сельских жителей исчезающих деревень, разгромленных колхозов и совхозов, а также эмигрантов из стран ближнего зарубежья, переселенцев из Китая.
Все это масштабно обострило проблемы социальной безопасности, эффективности развития сибирских регионов, решения здесь вопросов справедливости. Растущая имущественная и социально-классовая дифференциация, совпадая в значительной мере с национально этническим делением населения регионов, придает сегодня этим процессам особую остроту и напряженность, требует постоянного внимания.
Именно потому программа Алтайского отделения партии «Справедливая Россия», названная «Справедливый край» акцентирует внимание общественности и властей, социально ориентированного бизнеса, прежде всего, на вопросы социальной эффективности и справедливости, решение проблем социальной безопасности. В условиях оптимизации такой деятельности депутатская группа «Справедливой России» Законодательного собрания Алтайского края в 2007 г. инициировала создание экспертного совета по проблемам социальной эффективности регионального развития. Базовую структуру экспертного совета научной общественности при краевом законодательном собрании (КЗС) составили рабочие экспертные группы специалистов по профилям деятельности комитетов регионального законодательного собрания. При этом по ключевым проблемам социальной эффективности развития края формируются специализированные проблемные группы, сотрудничающие с депутатским корпусом региона, с научной общественностью соседних территорий, академическими и образовательными центрами страны.
Одной из ключевых задач экспертного совета является научное сопровождение законотворческой деятельности депутатской группы «Справедливой России» в КЗС, а также экспертиза регионального законодательства, активно обновляющегося в последние годы. При этом выдвигается в качестве ключевых такое направление работы, как экспертиза действующего законодательства, особенно региональных законов и подзаконных актов.
Стратегически значимым нам представляется развитие социального аудита, его научное, экспертно-технологическое сопровождение, кадровое и законотворческое обеспечение. Этого требует необходимость оценки новых социальных явлений и процессов, последствий реформирования всех сфер общественной жизни региона, потребность в преодолении негативных результатов кризисного развития и радикально – либеральных трансформаций, которые нередко закрепляются региональным законодательством вопреки требованиям социальной эффективности и просто здравого смысла.
При этом проблему социальной эффективности мы видим не только в отраслях социальной сферы края (здравоохранение, образование, культура, социальная защита, спорт), но и в развитии экономики, хозяйственного комплекса, бизнеса, а также общественно-политического развития региона. Здесь очевидны проблемы модернизации социального механизма трансформаций основ управления, технологизации, ресурсного и кадрового обеспечения деятельности, ее эффективности и зависимости от решения базовых для края социальных проблем, то есть эффективности нашего социального развития. Именно поэтому мы придаем особое значение развитию в нашем регионе социального партнерства, сотрудничества бизнеса, государственного управления и общественных организаций «третьего сектора», прежде всего профсоюзов.
Стратегически социальную эффективность развития края мы связываем с социальным партнерством, активным участием в нем государства, бизнеса и общественных организаций населения. Именно здесь на основе отечественной социальной культуры и развития современных коммуникаций мы видим фундамент эффективного развития социального государства, социально ориентированного бизнеса и активности гражданского общества, его общественных организаций. Программа «Справедливый край» ориентирует наш регион на социальную эффективность развития не только отдельного человека – жителя Алтайского края, но и его социальных институтов, общественных организаций и социальных групп, регионального бизнеса и государственного управления, кто реально может обеспечить достойную жизнь людей, их активность и ответственность, социальную плодотворность жизни.
Социальная эффективность и справедливость регионального развития в современной России в главном обеспечивается нашей деятельностью в исторически конкретном общественном и социально-территориальном пространстве. В этой связи мы должны учитывать развитость социального пространства, инфраструктуры региона, в котором проживает население, объем ресурсов жизнеобеспечения, которыми располагает регион, а также механизм, характер и масштабы их воспроизводства. Взаимозависимость жителей региона по поводу его жизненных ресурсов, пространства жизни является основой воспроизводства базовых первичных социальных отношений владения, пользования, распоряжения и распределения, присвоения, потребления. Эти отношения, развертываясь в основных сферах жизни людей, в каждом социально-территориальном пространстве, составляют основу развития политических, экономических, духовно-культурных, социальнобытовых и социально-экологических отношений людей. Основной вектор и характер их развития определяется, с одной стороны, государством и господствующим в нем типом собственности, а с другой, – активностью, дееспособностью населения, его элитных групп, профессиональных и политических сообществ, в том числе на региональном уровне.
Отметим стратегическое значение развитости человеческого фактора, а также жизненных сил населения. Их характеристика и развитие – существенно значимый показатель для определения социальной эффективности справедливости региональной развития. При этом речь идет не только о развитости, показателях индекса человеческого потенциала (ИРЧП)1, но и обо всей системе показателей развития человека как биопсихосоциалы-юго существа, участвующего в развитии основных сфер общественной жизни, об его всестороннем развитии, физическом, психическом и социальном здоровье.
В основу определения главных показателей социальной эффективности и справедливости развития региона закладываем: во-первых, характеристики развитости социального пространства жизни людей, его жизненные ресурсы, позволяющие воспроизводить людям, проживающим в регионе, свою жизнь всесторонне и эффективно с учетом потребностей общественного и государственного развития; во-вторых, как участника жизнедеятельности, актора, действующего, так или иначе во всех сферах общественных отношений, имеющих в своей основе первичные, базовые социальные отношения владения, пользования, распоряжения и распределения, присвоения, потребления.
Анализ исходных, базовых оснований характеристики социальной эффективности и справедливости регионального развития, таким образом, дифференцирует основные направления деятельности по их реальному обеспечению на две группы. Первая из этих групп связана с совершенствованием социального пространства жизни населения региона, развитостью его социальной инфраструктуры: системой учреждений образования и науки, культуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты, их технической и финансовой оснащенностью. Вторая представляет направления деятельности, связанные с характеристикой основных составляющих человеческого потенциала, его жизненных сил: а) физического, психического и социального здоровья человека; б) потенциала политической культуры и активности личности; в) потенциала экономической культуры и активности работника; г) потенциала социально-бытовой культуры и активности человека; д) потенциала социально-экологической культуры и активности личности.
Такое видение основ социальной эффективности и справедливости развития регионов современной России требует культуроцентрично ориентированного подхода и к подготовке кадров, которую нельзя ограничивать только ком-петентностной оценкой, и к развитию жизненного пространства населения региона, которое не может быть только хозяйственно-экономическим, производственно-прагматическим.
При этом принципиальное значение имеет взаимосвязь социальной эффективности и справедливости развития региональных сообществ. Здесь ключевое, определяющее значение имеет принцип социального оправдания равенства (неравенства) положения человека в обществе, его соответствие социальной роли личности в нем. При этом такой подход к пониманию основ справедливости интегрирует ее правовые, экономические и социальные характеристики, делает их основой определения, одной из наиболее существенных сторон социальной эффективности общественного развития. Неслучайно, региональная программа «Справедливый край» Алтайского отделения партии «Справедливая Россия» предлагает решение целого ряда проблем, определяющих основные направления обеспечения социальной эффективности развития региона:
-
– модернизация кадрового состава управления, кадровой политики на Алтае;
-
– приоритетное развитие отраслей социальной сферы края;
-
– стимулирование социального саморазвития края, его инновационных социальных технологий;
-
– обновление механизма законотворчества и контроля законности на всех уровнях организации управления краем,
-
– разработка и реализация программы «Новая целина», предполагающей создание в крае сети агрогородов;
-
– оптимизация пропорций государственного сектора, частной и корпоративной собственности края в интересах его эффективного развития;
-
– реализация программ инновационною совершенствования агротехнологий;
-
– разработка и реализация новой стратегии продвижения алтайской сельхозпродукции на рынке Сибири и Дальнего Востока, Центральной Азии;
-
– реализация программы «Социальная безопасность»;
-
– законодательное закрепление за работниками учреждений здравоохранения, образования и культуры особого статуса с соответствующим повышением заработной платы, расширением льгот;
-
– принятие краевой программы обеспечения социальным жильем молодых специалистов, учителей, научно-педагогических работников;
-
– модернизация высшей школы края, развитие ее связей с работодателями, развитие краевой программы профтехобразования;
-
– реализация программы «Доступная медицина»;
-
– реализация программы «Алтай – центр инновации экономики»;
-
– создание программы развития на Алтае социально ориентированного бизнеса и др.;
-
– реализация новой программы развития малого бизнеса.
Эти и многие другие проекты программы «Справедливый Алтай» определяют комплексный подход к решению проблем социальной эффективности и справедливости. В этом залог успеха, основа активности ответственного бизнеса и политиков, общественных организаций нашего региона.
Основой социальной эффективности и справедливости развития каждого региона нашей страны, российского общества в целом является поиск оптимального сочетания государственной, корпоративной (кооперативной) и частной собственности, а также традиций и новаций. Мы специально выделяем в рассматриваемой нами проблеме эти два аспекта, которые сегодня для любого российского региона важны. Для Алтая их значение велико вдвойне, поскольку регион пострадал в годы либерально-демократических реформ особенно сильно из-за разгромленной здесь «оборонки» и аграрного сектора экономики.
Социально и экономически неоправданная масштабная приватизация госсобственности на Алтае, проведенная как политическая кампания в 1990-е гг., ее негативные последствия требуют сегодня взвешенной оценки сложившейся ситуации и перспектив эффективного решения назревших проблем. Эти проблемы касаются как реальной поддержки бизнеса, его взаимодействия с государственным управлением в регионе, с общественными организациями, так и оценки региональных масштабов развития государственной, частной и корпоративной (кооперативной) собственности.
Сегодня для Алтайского края очевидна целесообразность восстановления, возрождения целого ряда коллективных хозяйств – колхозов и совхозов, которые в ряде случаев оказываются более эффективными и в экономическом, и в социальном плане. Фермерские движения также требует поддержки, но на основе развития кооперативных и государственных форм содействия ему. Фермерство в чистом виде в Сибири чаще оказывается неэффективным, его доля в регионе должна быть целесообразно обоснована (и экономически, и социально).
Принципиальный вопрос – paзвитие государственного сектора экономики и бизнеса, кооперативных форм собственности в различных отраслях промышленности. Либерально-рыночное давление на государствообразующие отрасли экономики уже создало и продолжает создавать крупные проблемы экономического, политического и социального характера. До сего дня не решен вопрос о природной ренте, которая подвергается расхищению крупным бизнесом отнюдь не в интересах народа и государства.
Алтайский край в этой связи многое теряет, прежде всего, из-за дефицита энергоресурсов – газа, нефти, электричества. Этот дефицит пока никак не компенсируется агроресурсами региона.
Весьма остро стоит вопрос о неэффективности целого ряда частных производств, которым в современных условиях без государственной поддержки (или формы организации собственности) весьма трудно выжить, эффективно работать. Это также требует соответствующих перемен, реформирования сложившейся ситуации.
Стратегически важно решение еще одного организационного, концептуального вопроса – о соотношении в регионе инновационного и традиционного. В годы реформ, да и сегодня, чаще всего, принято считать, что все новое это – благо, прогрессивное явление. И выступления против чего-то нового всегда являются основой критики за отсталость, инертность.
Между тем, рациональный, трезвый анализ ситуации в регионе, да и в стране, в любой деятельности требует разумного отношения к сочетанию инновационного и традиционного. Очевидно, что далеко не все новое может и должно внедрять- ся в практику из-за его несоответствия требованиям времени, либо качества обоснования целесообразности инноваций, их эффективности (производственной, экономической и социальной).
Равным образом, далеко не все традиционные, известные (старые) виды деятельности заслуживают забвения, исключения из практической деятельности, ибо они могут быть еще длительное время и экономически, и практически, и социально эффективными. Оптимальное сочетание и на производстве, и в политическом управлении, и в социальной сфере традиций и новаций – одно из оснований обеспечения не только экономической, но и социальной эффективности управления, а значит и решения проблем справедливости.
Ориентируясь на опережающее развитие инновационных технологий, их внедрение в практику, мы должны постоянно учитывать требования закона устойчивого развития общественных систем, требующего в деятельности, в управлении оптимального, адекватного времени сочетания инновационного и традиционного, традиций и новаций.
Работая в интересах решения проблем социальной эффективности и справедливости на Алтае, мы не можем игнорировать этого требования жизни и научных основ управления в любых политико-идеологических условиях.
-
1. Субетто А.И. Наука и общество в начале XXI века: ноосферные основания единства. – С.-Пб.: 2009.
-
2. Могилевкин И.М. Глобальная инфраструктура: механизм движения в будущее. – М.: Магистр, 2010.
-
3. Добреньков В.И. Глобализация и Россия: социологический анализ. – М.: ИНФРА-М, 2006.
-
4. Кравченко С.А. Постмодернизм в современной социологии. – М., 2008.
-
5. Луков В., Луков В. Тезаурусы: субъектная организация гуманитарного знания. – М.: Изд-во Нац. Института бизнеса, 2008.
-
6. Бергер П.Л., Бергер Б., Коллинз Ф. Личностноориентированная социология. – М.: Акад. Пр-т, 2009.
-
7. Спасибенко С.Г. Социология человека. – М.: Экслибрс-Пресс, 2007.
-
8. Ануфриев Е.А. Личностная типология в теории социального управления // Социально-гуманитарные знания, 2006, №5.
-
9. Григорьев С.И. Основы виталистской социологии XXI века. – М.: Гардарики, 2007.
-
10. Современное понимание жизненных сил человека: от метафоры к концепции. – М.: Магистр-Пресс, 2000.
-
11. Григорьев С.И., Растов Ю.Е., Демина Т.Д. Жизненные силы человека и общества. – Барнаул, 1993.
-
12. Социально-педагогические технологии в деятельности образовательного учреждения. Учебное пособие. Ред. В.С. Торохтий. – М.: ННО СПО, «Сотис», 2007.
-
13. Ганичев В.Н. Малые города России – засечная линия русской культуры. // Муниципальный мир, 2003, № 4.
-
14. Шереги Ф. Категориальные модели социологии.
// Сотис, 2011, № 2.
-
15. Терентьев А.В., Григорьев С.И., Макаров Д.В. Социальная эффективность и справедливость регионального развития России начала XXI века (к построению современных стратегий эффективного регионального развития в условиях постреформенной стабилизации и модернизации российского общества. – Барнаул – Москва, 2008.
-
16. Аргунова В.А. Социальная справедливость: ценностно-институционный анализ. – Иваново, 2004.
-
17. Григорьев С.И., Миронова Р.В. Виталистская социология справедливости: истоки, состояние, перспективы развития. – Барнаул, 2007.
-
18. Роулз Дж. Теория справедливости. Пер. с англ. – Новосибирск: НГУ, 1995.
-
19. Печенов В.А. Истина и справедливость. – М., 1989.
-
20. Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право. – М., 1976.
-
21. Козловский В.В., Уткин А.И. Федотова В.Г. Модернизация: от равенства к свободе. – Спб., 1995.
-
22. Проблемы реинтеграции постсоветского пространства: экономические и политические аспекты. Т. III. Ред. Г.А. Чернейко. – М.: Клуб «Реалисты», 2007.
-
23. Социокультурный портрет региона. Материалы конференции «Социокультурная карта России и перспективы развития российских регионов». – М.: 2006.
-
24. Уровень жизни населения Российской Федерации. Правовая основа преодоления бедности. – М., 2004.
-
25. Болотова Л.С. Духовные основания муниципальной власти // Муниципальный мир, 2003, № 4.
Список литературы Справедливость муниципального социального развития в современном российском обществе: основы теории, идеологии и практики на пороге ноосферной цивилизации управляемой социоприродной эволюции
- Субетто А.И. Наука и общество в начале XXI века: ноосферные основания единства. -С.-Пб.: 2009.
- Могилевкин И.М. Глобальная инфраструктура: механизм движения в будущее. -М.: Магистр, 2010. EDN: QTTBYF
- Добреньков В.И. Глобализация и Россия: социологический анализ. -М.: ИНФРА-М, 2006. EDN: QOFAJZ
- Кравченко С.А. Постмодернизм в современной социологии. -М., 2008.
- Луков В., Луков В. Тезаурусы: субъектная организация гуманитарного знания. -М.: Изд-во Нац. Института бизнеса, 2008. EDN: QOAAEF