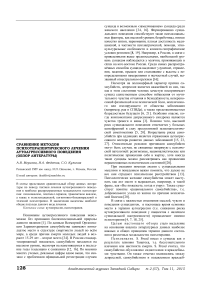Сравнение методов психотерапевтического лечения аутоагрессивного поведения (обзор литературы)
Автор: Меринов А.В., Федотов И.А., Куликов С.О.
Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws
Рубрика: Психиатрия. Психология. Неврология
Статья в выпуске: 2 (57) т.11, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен сравнительный обзор данных литературы по поводу тактики лечения аутоагрессивного поведения в наиболее распространенных модальностях психотерапии: психоанализе, гештальт-терапии, трансактном анализе, а также в экзистенциальной, когнитивно-бихевиоральной и телесной психотерапии. В заключении выделены наиболее общие подходы данного вида лечения.
Аутоагрессия, психотерапия
Короткий адрес: https://sciup.org/140219807
IDR: 140219807
Текст научной статьи Сравнение методов психотерапевтического лечения аутоагрессивного поведения (обзор литературы)
Понимание аутоагрессивного поведения невозможно без признания биопсихосоциальной природы данного явления [1]. По данным Всемирной Организации Здравоохранения самоубийства занимают пятнадцатое место в структуре смертности людей во всём мире, а среди причин смерти молодых людей в возрасте 15-29 лет – второе место [34]. В России стандартизированный показатель самоубийств находится на высоком уровне, несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к снижению [12, 16]. По мнению многих ученых, реальные цифры вдвое выше, что связано с проблемами официальной регистрации случаев суицида и возможным «замалчиванием» суицида среди женского населения [34, 16]. Формированию суицидального поведения способствуют такие психосоциальные факторы, как высокий уровень безработицы, низкое качество жизни, наркомании, плохая доступность медицинской, в частности психиатрической, помощи, этно-культуральные особенности и климато-географические условия регионов [8, 19]. Например, в России, в связи с приведенными выше предпосылками, наибольший уровень суицидов наблюдается у мужчин, проживающих в сёлах на юго-востоке России. Среди самых распространённых способов суицида выделяют удушение, отравления, падение, прыжок или сталкивание с высоты с неопределенными намерениями и несчастный случай, вызванный огнестрельным оружием [16].
Несмотря на полиморфный характер причин самоубийств, депрессия является важнейшей из них, так как в этом состоянии человек зачастую воспринимает суицид единственным способом избавления от мучительного чувства отчаяния и безнадёжности, непереносимой физической или психической боли, неизлечимого или изолирующего от общества заболевания (например, рак и СПИДа), а также представляющегося безрадостным будущего [6, 21]. Особенно опасно, когда компонентами депрессивного синдрома являются чувства тревоги и вины [3]. Помимо того, высокий риск суицидального поведения отмечается у больных шизофренией в силу продуктивной психопатологической симптоматики [5, 20]. Возрастание риска самоубийств при аддикциях является отражением аутоагрессивного вектора развития данных заболеваний [15, 23, 27]. Относительно редкими причинами самоубийств могут быть случаи, не связанные напрямую с психической патологией: религиозные, националистические или политические принесения себя в жертву, хотя иногда такие суициды можно рассматривать как проявления нераспознанных психотических состояний [20].
При оказании помощи людям с суицидальными мыслями и поведением важно помнить, что далеко не все они страдают психическим расстройством [13]. Психологически желание самоубийства может выступать как акт мести и выражаться, например, в такой фразе, как «Вы пожалеете, когда я умру». Также существует понятие «рационального самоубийства», т.е. добровольного ухода из жизни по причине неизлечимой болезни [20].
В связи с важностью изменения мыслей, чувств и поведения суицидентов, в настоящее время основное место в терапии аутоагрессии (т.е. снижении риска аутоагрессивного поведения у пациентов с наличием суицидальной настроенности) принадлежит именно психотерапии [4, 7, 18, 25].
Целью настоящего обзора стало выделение на основании анализа литературных данных наиболее важных и общих принципов терапии данного состояния в различных модальностях психотерапии.
Психоанализ. S. Freud писал о суициде как о результате влияния Танатоса, т.е. бессознательного влечения или инстинкта смерти. S. Freud считал, что самоубийство обусловлено садистскими и враждебными чувствами. Он также отмечал взаимосвязь между депрессией, самоубийством и подавлением враждеб- ности, что крайне важно для анализа мотивации к самоубийству человека, находящегося в депрессии [10]. Другие психоаналитики объясняют возникновение суицидальных тенденций как результат нарушения психосексуального развития личности из-за отсутствия важных фигур (лиц) в некоторых стадиях этого развития, а сам суицид становится способом воссоединения с ними [14]. В процессе терапии подвергаются анализу бессознательные мотивы и психические механизмы. Эта процедура переводит их в сферу сознательного, что позволяет человеку делать самостоятельный выбор и обеспечивать контроль своих мыслей, чувств и поведения.
Трансактный анализ. В концепции трансактного анализа суицид рассматривается как часть сценария, формирующегося в раннем детстве, когда ребёнок невербально получает предписание «Не живи» от своих родителей или лиц, заменяющих их [32]. Такие сценарии имеют трагический исход и называются «гамар-тическими» [26]. Существует 3 вида исходов гамарти-ческих сценариев: суицид, убийство и сумасшествие [30], которые Holloway описал как «спасательные люки» [31]. Он считал, что люди с гамартическими сценариями оставляют за собой право прибегнуть к этим выходам в случаях непереносимых жизненных обстоятельств, более того – они поддерживают запас плохого самочувствия, чтобы сохранять доступность трагического сценария даже в ситуациях, когда ничто не угрожает их жизни [26].
Harry S. Boyd и Laura Cowles-Boyd (1980) в своей статье «Блокирование трагических сценариев» полагают, что спасательные люки нужно закрывать в процессе работы со всеми пациентами на максимально возможно ранней стадии терапии, а также важно и целесообразно закрыть все спасательные люки во время одной психотерапевтической сессии. С клиентом заключается контракт на закрытие «аварийных люков», который является основой любого психотерапевтического лечения. Для каждого люка используется одна и та же общая формулировка: «Я могу хотеть (убить себя, убить другого, сойти с ума), но я не сделаю этого». Авторы статьи также подчёркивают значимость деконтаминации Взрослого первого порядка (повышение уровня осознания) для того, чтобы освободить процесс принятия решений клиентом от влияния мыслей и чувств архаического Ребёнка. Терапевты должны чётко различать, когда принятие решения заключить подобный контракт – результат деятельности Взрослого (В2), а когда – результат сверхадаптации Адаптированного Ребёнка, поскольку во втором случае эффект от контрактирования невысок (человек формально подписывается под ним, но не принимает его цели и сути). В качестве варианта для пациентов, у которых деконтаминация полностью не завершена, предлагается принять «ограниченный во времени контракт» на закрытие спасательных люков. Вероятно, что при лечении пациентов, которые не могут или не хотят заключать даже ограниченный временем контракт, терапевту придётся рассматривать госпитализацию клиента [29].
Ian Stewart, обобщая имеющиеся в литературе данные по закрытию спасательных люков, выделяет две определённые терапевтические цели этой процедуры: первая – способствовать клиенту в принятии физи- ческой защиты от возможности самоубийства, убийства или умопомешательства; вторая – прямая помощь в процессе изменения сценария. По мнению Stewart, эти два терапевтических выигрыша ставят закрытие спасательных люков в ряд с самыми важными и сильными интервенциями, которые можно использовать в терапии, ведь таким образом человек добровольно выбирает жизнь, здоровье и ясный ум [33].
Гештальт-терапия. Феномен психической боли в гештальт-терапии стал ключевым в рассмотрении вопроса суицида. Боль (psychache) как важный психодиагностический признак указывает на разрушение или угрозу разрушения границ между личностью и средой, особенно в ситуациях изоляции и одиночества, что взаимосвязано. С целью защиты от мучительных чувств и страданий человек прибегает к бессознательным механизмам защиты. В гештальт-терапии их называют механизмами прерывания контакта, т.к. они имеют свою специфику и, в отличие от терминов, предложенных S. Freud, называются интроекцией, проекцией, ретрофлексией, дефлексией или конфлюэнци-ей. Те психические процессы, которые происходят с человеком, имеющим суицидальные мысли и желания, принято описывать как векторы самоубийства.
Интроективный вектор самоубийства характеризуется прерыванием контакта на стадии возникновения фигуры, т.е. личность принимает чужой опыт настолько, что он заменяет собственные желания и потребности. Человеку в этом случае не просто идентифицировать «своё» и отделить его от «чужого». Опасность заключается в том, что интроекции могут подвергаться несовместимые друг с другом представления или установки, а это нередко сопровождается ограничением в возможности принятия собственного выбора и возникновением суицидального конфликта. Отличительной чертой таких клиентов является неспособность осознавать, что не вся поступающая к ним информация есть истина в последней инстанции. Избегание контакта через злоупотребление интроекцией угрожает исчезновению у личности страха перед собственной смертью.
Также отвержение некоторой части своего «Я» происходит, когда индивид что-то реально принадлежащее ему приписывает окружающей среде. В частности, человек не признаёт в себе проявления аутоагрессии и не берёт ответственности за эти деструктивные чувства. Бессознательно, он начинает находить их в других людях, и, таким образом, формируется проективный суицидальный вектор . Чрезмерная проекция приводит к отстранённости такой личности от кажущейся ей враждебной окружающей среды. Возникшая в результате этой изоляции подавленность и депрессия зачастую приводит к самоуничтожению. Особенность таких клиентов – это склонность к наставлениям, недоверие, подозрительность и, нередко, жестокость и агрессия. В суицидальной ситуации они обычно избирают такие способы самоубийства, которые оставляют мало шансов на спасение.
При ретрофлексии цикл контакта прерывается непосредственно перед осуществлением конкретного действия. Ретрофлексивный вектор самоубийства характеризуется тем, что индивид оставляет большин- ство чувств и желаний внутри собственной личностной системы. Обычно такой человек не позволяет себе проявление агрессии в отношении объектов, на которые она действительно направлена, а реализация этой агрессии происходит на самой личности. В беседе с терапевтом такой клиент часто говорит «себя», употребляет возвратные частицы «-ся», стремится оградиться от актуальной ситуации, однако с удовольствием ведёт диалог с самим собой как наблюдатель и наблюдаемый.
Конфлюэнтный вектор самоубийства характеризуется слиянием человека с окружающим его миром, таким образом, психическая реальность личности становится фоном. Стёртые границы между истинным «Я» и окружающей средой приводят к тому, что индивид теряет себя в происходящей ситуации. Это состояние проявляется неясными тревожными чувствами, некоторой замутнённостью сознания и утратой идентичности в некоем «мы». Человек не осознаёт своих чувств и потребностей, поэтому является весьма восприимчивым к аутоагрессивным действиям. Поскольку эти суициды часто выглядят внезапными и импульсивными, конфлюэнтных клиентов следует признать одной из серьёзных групп риска. Распознать их можно по употреблению безличных форм предложений («Как-то грустно», «тяжело»), местоимений «мы» или «нам» для описания своего состояния, а также выражению своих мыслей в третьем лице («Люди довольно часто оказываются в невыносимых ситуациях»). Обычно у таких клиентов сложно добиться желания прояснить детали травмирующей ситуации, а при их обнаружении в ходе терапии есть опасность столкнуться с агрессивными реакциями.
Задачи феноменологической диагностики боли в гештальт-терапии заключаются в распознавании векторов суицидального поведения, а также выделении определяющих боль эмоций, установок, смыслов и ценностей.
Принципы гештальт-терапии боли и аутоагрессивного поведения основаны на коррекции процессов и феноменов, связанных с актуальным суицидальным вектором данного клиента и терапевтической реконструкции боли в истории жизни, т.е. проживание основных фрустрированных мета-потребностей: в безопасности, привязанности (связанности или принадлежности) и достижении (манипуляции) [17].
Экзистенциальная психотерапия. Парадоксально, но в экзистенциальной психотерапии в качестве причины, толкающей человека на совершение суицида, рассматривается страх самой смерти, и самоубийство трактуется как активный акт, дающий возможность человеку контролировать то, что властвует над ним. Таким образом, идея самоубийства предоставляет некоторую защиту от ужаса.
Предполагается, что предсмертные состояния играют роль катализатора в развитии личности [2]. Говоря о суицидальных клиентах, Irvin David Yalom приводит примеры, когда близкая встреча индивида со смертью (или конфронтация со смертью) оказывает позитивное влияние на человека. Он пишет, что клиенты, предпринявшие серьезные суицидальные попытки и выжившие по чистой случайности, отмечают «изменение приоритетов», становятся более способными ис- пытывать сострадание, больше обращены к людям, чем прежде, а некоторые стали полны трепета жизни и энтузиазма. Так как смерть затрагивает жизненный опыт человека, она играет критически важную роль в психотерапии. Irvin D. Yalom утверждает, что жизнь и смерть находятся во взаимозависимых отношениях: физически смерть уничтожает человека, но сама идея, сознание смерти спасает его, обостряет чувство жизни и радикально меняет взгляд на нее. Смерть действует как катализатор перехода из одного состояния бытия в другое, более высокое – из состояния, в котором мы задаемся вопросом о том, каковы вещи, в состояние потрясенности тем, что они есть. Задача терапевта состоит не в обеспечении клиента опытом конфронтации со смертью, а в помощи осознать этот опыт, которым, по мнению Irvin D. Yalom, проникнуто всё вокруг самого клиента. Также при работе с высоко суицидальными клиентами для уменьшения их суицидального риска Irvin D. Yalom призывает терапевтов потребовать с этих клиентов некоторой степени принятия ответственности. Это достигается через заключение «противосуицидного пакта», в котором пациент обязуется не предпринимать суицидальных попыток в течение оговорённого периода времени [28].
A. Längle рассматривает суицид с экзистенциально-аналитической точки зрения как симптом, который соответствует внутренней установке по отношению к жизни. Когда человек негативно оценивает свою жизнь и считает её обузой для других, она становится источником непреодолимой вины, а суицид представляется логичным итогом подобных переживаний. Негативная фундаментальная ценность ведёт не только к деструктивным чувствам, но и к персональной установке, которая содержит в себе решение против жизни. Таким образом, человек следует за своей психической реальностью и за своими убеждениями, т.е. суицид представляется индивиду истинно нравственным внутри рамок его отношений [11].
Важно попросить клиента не причинять себе вреда хотя бы на определённый промежуток времени. Это позволит терапевту выявить скрытые мотивы суицидальных мыслей, а также сфокусировать клиента на понимании ситуации, укрепить его убеждение в фундаментальной ценности жизни.
A. Längle также предлагает методику V. Frankl, основателя логотерапии, основанную на выявлении того, как пациент соотносится со смыслом [14]. V. Frankl назвал утрату смысла главным фактором риска суицида [28]. Если пациент видит смысл в своей жизни, то это уменьшает возможность совершения суицида, если же он такого смысла не видит, то ничто не сможет его удержать. Смысл – важное вспомогательное средство (hilfsmittel) в преодолении суицидальности [11]. V. Frankl был уверен, что смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы научиться придавать ей смысл, во-первых, с помощью наших чувств – это наслаждение тем, что уже у нас есть, т.е. удовольствие от эстетической красоты мира. Во-вторых, с помощью нашего творчества, наших умений отдавать что-то миру и другим. И, в-третьих, с помощью наших установочных ценностей, наших внутренних ресурсов, которые позволяют преодолеть трудные жизненные ситуа- ции [24]. Осознание и ощущение смысловых взаимосвязей является важнейшим ресурсом для формирования воли к жизни [9].
Когнитивно-бихевиоральная психотерапия. Совместное с клиентом выявление оснований для продолжения жизни стало одной из важных составляющих современного протокола когнитивной терапии пациентов с риском совершения суицида. Суицидальный кризис определяется в когнитивной психотерапии как совершение попытки суицида или острые наплывы суицидальных мыслей и желаний. Именно для пациентов, переживших или переживающих такой кризис, был создан протокол, сфокусированный на мыслях и поведении, вызывающих суицидальный кризис. Выделяются острая (на основе антикризисного протокола) и продолжающаяся (связанная с другими проблемами) фазы работы. Согласно когнитивной теории, в основе суицидального поведения лежит определённая запускающая его когнитивная схема, которая ведёт к активизации соответствующих когнитивных процессов: повышенному вниманию к провокаторам суицидального поведения и фиксации на мысли, что самоубийство – единственное решение проблемы. Охваченность такими мыслями – важный признак суицидального кризиса. К задачам терапии в кризисной фазе относятся мотивация к лечению, разработка «плана безопасности», который представляет собой систему средств для совладания с суицидальным кризисом (например, описание совладающих приёмов, которые может использовать сам пациент, определение круга людей, с которыми он может связаться для обсуждения своего состояния во время кризиса), а также формулировка целей лечения. Важный итог начального этапа – договорённость о предотвращении попыток суицида. Задачей следующего этапа является когнитивное переструктурирование. Терапевт проблематизирует убеждения клиента в безнадёжности ситуации и строит модели привлекательного будущего через один год, или 10-15 лет, когда текущие жизненные проблемы, вызывающие сейчас столь острую реакцию, смягчатся или вовсе будут разрешены. Задачами завершающей фазы лечения являются составление плана предотвращения кризиса, фиксация всех достигнутых в процессе терапии положительных сдвигов и закрепление навыков собственного совладания с кризисом [25].
Телесно-ориентированная психотерапия. Работа с депрессией и суицидальными тенденциями возможна и на телесном уровне. К примеру, Marion Rosen, основательница так называемого «розен-метода терапии», описывает типичную депрессивную позу человека: грудь впалая, плечи направлены вперёд, голова также немного наклонена вперёд. Получается, что верхняя часть тела становится проваленной, а сердце защищенным, дыхание при этом очень поверхностное. Выражаясь метафорически, защита сердца оберегает человека от болезненных и мучительных эмоций, но при этом закрывает его от контакта с другими людьми и не позволяет соприкоснуться со своим собственным чувством любви, что вызывает ощущение подавленности и изоляции.
Розен-практики работают на мышцах вокруг сердца спереди и сзади – это диафрагма и мышцы, распрямляющие позвоночник. Основные правила метода: прикасаться мягкой рукой, позволять проявляться дыханию, одновременно идти вглубь бессознательного, доступ к которому возможен через прикосновение. Важно работать с дыханием человека: когда оно сможет перейти в верхнюю часть груди, человек, скорее всего, почувствует себя радостным и любящим. Особенность метода заключается в том, что розен-практики находят напряжённые участки тела и позволяют им расслабиться, одновременно с этим раскрываются истинные чувства человека [22].
Заключение. На основании проведенного анализа можно выделить следующие общие принципы:
-
1. Необходимо незамедлительное начало терапии – кризисная интервенция.
-
2. В первую очередь важно обеспечить безопасность клиента. С этой целью необходимо заключить договорённость с клиентом о том, что он не будет совершать никаких аутодеструктивных действий на всём протяжении терапии. В некоторых психотерапевтических направлениях такое соглашение между терапевтом и клиентом носит особое название: в трансактном анализе – «антисуицидальный контракт», в экзистенциальной терапии – «противосуицидный пакт». Так как речь идёт об угрозе жизни человека, психотерапевту следует проявлять директивность при заключении такого рода договорённости, а при невозможности это сделать – решать вопрос о госпитализации клиента, при которой контроль аутоагрессивного поведения будет перенесен «во вне» и возложен на персонал психиатрической клиники.
-
3. Процесс терапии суицидальных клиентов включает в себя выявление и анализ мотивов совершения самоубийства, проработку чувств, с которыми обратился человек, а также укрепление его веры в существование смысла продолжения жизни.
-
4. Вопрос выбора метода психотерапии в каждом конкретном случае остается открытым, нет убедительных доказательств большей эффективности каких-то конкретных методов, потому предпочтительнее выглядит интегративный системный подход.
Список литературы Сравнение методов психотерапевтического лечения аутоагрессивного поведения (обзор литературы)
- Амбрумова A.Г. Роль личности в проблеме суицида//Актуальные проблемы суицидологии. -М., 1981. -С. 35-49.
- Ахмедов Т.И. Практическая психотерапия. -М.: Эксмо, 2008. -752 с.
- Васильев В.В., Ковалёв Ю.В., Имашева Э.Р. Суицидальные мысли при депрессивном синдроме//Суицидология. -2014. -Том 5, № 1. -С. 30-34.
- Ваулин С. Терапия суицидального поведения//Журнал «Врач». -2011. -№14. -С. 72-74.
- Вишневская О.А., Петрова Н.Н. Суицидальное поведение больных в ремиссии шизофрении//Суицидология. -2014. -Том 5, №1. -С. 35-10.
- Зотов П.Б. Суицидальное поведение онкологических больных. Отношение врачей онкологов//Суицидология. -2011. -№ 4. -С. 18-25.
- Зотов П.Б. Факторы антисуицидального барьера в психотерапии суицидального поведения лиц разных возрастных групп//Суицидология. -2013. -Том 4, № 2. -С. 58-63.
- Зотов П.Б., Михайловская Н.В. Неумышленные передозировки наркотика и суицидальное поведение больных наркоманиями//Суицидология. -2013. -Том 4, № 3. -С. 48-57.
- Кривцова С., Лэнгле С. С собой и без себя: практика экзистенциально-аналитической психотерапии. -М: Генезис, 2009.
- Лоуэн А. Депрессия и тело: пер. с англ. -М.: Психотерапия, 2010. -312 с.
- Лэнгле А. Дотянуться до жизни.. Экзистенциальный анализ депрессии: пер. с нем. -М.: Генезис, 2010. -128 с.
- Любов Е.Б., Морев М.В., Фалалеева О.И. Социально-экономическое бремя суицидальной смертности в России как научно-доказательное обоснование развития программ превенции суицидов//Суицидология. -2011. -№ 2. -С. 41-43.
- Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь близки. -М.: Эксмо, 2009. -192 с.
- Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными ситуациями. -М., Смысл, 2013.
- Меринов А.В., Шустов Д.И., Федотов И.А. Современные взгляды на феномен созависимого поведения при алкогольной зависимости (обзор литературных данных)//Рос. медико-биол. вестн. им. акад. И.П. Павлова. -2011. -№ 3. -С. 136-141.
- Морев М.В., Шматова Ю.Е., Любов Е.Б. Динамика суицидальной смертности населения России: региональный аспект//Суицидология. -2014. -Том 5, № 1. -С. 3-10.
- Моховиков А.Н. Психическая боль: природа, диагностика и принципы гештальт-терапии //Московский Гештальт Институт. URL: http://www.gestalt.ru/(дата обращения: 20.11.2014).
- Пирогова О.Н. Глубинно-психологические источники субъективных мотивов суицидального поведения//Уральский медицинский журнал. -2007. -№ 4. -С. 3-6.
- Положий Б.С., Куулар Л.Ы., Дуктен-оол С.М. Особенности суицидальной ситуации в регионах со сверхвысокой частотой самоубийств (на примере Республики Тыва)//Суицидология. -2014. -Том 5, № 1. -С. 11-17.
- Психиатрия. Серия «Зарубежные практические руководства по медицине» №6. Пер. С англ./под ред. Р. Шейдера. -М., Практика, 1998. -485 с.
- Розанов В.А., Мидько А.А. Метафакторы Big Five и феномен безнадёжности в предикции суицидальности//Суицидология. -2012. -№ 2. -С. 34-43.
- Розен М., Бреннер С. Работа с телом в розен-методе: доступ к бессознательному через прикосновение /пер. с англ. Г.П. Бутенко. -М.: Психотерапия, 2013. -144 с.
- Сафронова А.В., Меринов А.В. Распространенность употребления психоактивных веществ среди юношей и девушек, обучающихся в высших учебных заведениях//Наука молодых -Eruditio juvenium. -2014. -№ 3. -С. 109-113.
- Франкл В. Человек в поисках смысла: пер. с нем. -М.: Прогресс, 1990. -372 с.
- Холмогорова А.Б. Когнитивная психотерапия суицидального поведения: история разработки, современное состояние, перспективы развития //Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. -2013. -N 2 (19). -URL: http://medpsy.ru (дата обращения: 23.11.2014).
- Шустов Д.И., Руководство по клиническому трансактному анализу. -М.: «Когнито-Центр», 2009. -367 с.
- Шустов Д.И. Алкогольные парасуициды: клиническая типология и особенности острого похмельного статуса//Рос. медико-биол. вестн. им. акад. И.П. Павлова. -2000. -№1-2. -С. 50-55.
- Ялом И. Экзистенциальная психотерапия: пер. с англ. -М.: Независимая фирма «Класс», 1999. -576 с.
- Boyd H.S., Cowles-Boyd L. Blocking Tragic Scripts//TAJ. -1980. -Vol. 10. -№ 3. -P. 227-229.
- Haiberg G., Selfness W.R., Berne E. Destiny and Script Choices//Transactional аnalysis bulletin. -1963. -№2. -P. 59.
- Holloway W.H. Shut the Escape Hatch. Monograph IV. -Ohio, 1973. -196 p.
- Lester D. Psychotherapy for suicidal clients//Death Studies. -1994. -Vol. 18. -P. 374.
- Steward I. Closing Escape Hatches: Always Therapeutic, Never Routine//The Script. -2001. -№ 5 -P. 5.
- World Health Organization. Preventing suicide: a global imperative. -Geneva, 2014. -97 p.