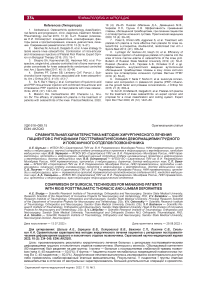Сравнительная характеристика методик хирургического лечения пациентов с ригидными посттравматическими деформациями грудного и поясничного отделов позвоночника
Автор: Шульга А.Е., Зарецков В.В., Островский В.В., Бажанов С.П., Лихачев С.В., Смолькин А.А.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Травматология и ортопедия
Статья в выпуске: 3 т.18, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель: проанализировать результаты хирургического лечения больных с ригидными посттравматическими деформациями грудного и поясничного отделов позвоночника. Материал и методы. Обследуемый контингент (80 пациентов) был разделен на две группы: I группа - больные с последствиями стабильной травмы позвонков (типа А; 40 пациентов - 50,0%); II группа - пациенты после нестабильных повреждений позвоночника (типов В и С; 40 пациентов - 50,0%). Хирургическое лечение выполнялось изолированно из вентрального доступа либо применялись комбинированные этапные вмешательства. Результаты. У пациентов I группы этапные вмешательства в отличие от вентральных характеризовались большей длительностью операции и кровопотерей (р
Вентральная винтовая стабилизация, ригидные посттравматические деформации позвоночника, травма грудных и поясничных позвонков, транспедикулярная фиксация
Короткий адрес: https://sciup.org/149141761
IDR: 149141761 | УДК: 616-089.15
Текст научной статьи Сравнительная характеристика методик хирургического лечения пациентов с ригидными посттравматическими деформациями грудного и поясничного отделов позвоночника
1Введение . Повреждения грудного и поясничного отделов составляют 70-75% от всей травмы позвоночного столба [1]. Одним из наиболее частых неблагоприятных исходов реабилитации этих больных являются ригидные посттравматические деформации позвоночника, причиной формирования которых служат неуместные консервативные и неадекватные хирургические методики лечения [2]. Застарелые деформации грудного и поясничного отделов позвоночного столба часто приводят к стойкой инвалидизации больных вследствие прогрессирующей функциональной несостоятельности позвоночника и неврологического дефицита [3].
Коррекция ригидных посттравматических деформаций — это трудоемкие и многокомпонентные хирургические вмешательства, травматичные для пациентов [4]. Тяжесть операции определяется объемом мобилизующей резекции костно-фиброзного блока и протяженностью фиксации, которые, в свою очередь, зависят от характера и степени деформации позвоночного столба [5]. В последнее время многие специалисты предпочитают использовать дорзальные вмешательства, решая все перечисленные задачи из одного доступа (PSO, VSR, VCD) и избегая при этом травматичных полостных операций [6, 7]. Другие не без основания утверждают, что данные методики сложны в выполнении, связаны с высоким риском неврологических осложнений, и рекомендуют применять многоэтапные комбинированные вмешательства (A/P/A, P/A/P) [8, 9]. Следует отметить, что вентральная хирургическая коррекция ригидных деформаций грудного и поясничного отделов позвоночника используется гораздо реже [10]. Как показывают литературные данные, авторы отдают предпочтение дорзальным системам, мотивируя свой выбор тем, что вентральный инструментарий не обладает достаточными корригирующими возможностями, особенно в случае многоплоскостных деформаций [11]. Однако ряд специалистов указывают и на положительные результаты коррекции застарелых деформаций из переднего доступа, обращая при этом внимание на меньшую травматичность изолированных вентраль-
ных и двухэтапных вмешательств (P/A) по сравнению с многоэтапными операциями (A/P/A, P/A/P) [12].
По-видимому, категоричный отказ от использования для коррекции ригидных деформаций грудного и поясничного отделов позвоночника вентрального инструментария является весьма противоречивым. На наш взгляд, существует необходимость определить роль и место различных вариантов фиксации в структуре хирургического лечения застарелых повреждений позвоночного столба.
Цель — проанализировать результаты хирургического лечения больных с ригидными посттравматическими деформациями грудного и поясничного отделов позвоночника.
Материал и методы . В работе проанализированы результаты хирургического лечения 80 больных с ригидными посттравматическими деформациями грудного и поясничного отделов позвоночника. Возраст пациентов варьировал от 19 до 66 лет, причем преобладали лица наиболее трудоспособного возраста (25–50 лет). В подавляющем большинстве случаев (84%) причиной повреждения позвоночного столба послужила высокоэнергетическая травма (ДТП и кататравма).
При поступлении всем больным проводили стандартное обследование, которое включало изучение жалоб, анамнеза, соматического, неврологического и ортопедического статусов пациента. Визуализацию деформации позвоночника осуществляли при помощи рентгенографии, а также КТ в динамике.
Для интерпретации интенсивности болевого синдрома использовали визуально-аналоговую шкалу (ВАШ). Качество жизни пациентов до и после оперативного вмешательства исследовали при помощи опросника Освестри — Oswestry Disability Index (ODI).
Состояние проводниковой функции спинного мозга оценивалась по шкале ASlA/IMSOP, согласно которой у 66 больных (82,5%) отсутствовал неврологический дефицит (тип Е ), а у остальных пациентов (14 больных, 17,5%) проводниковая симптоматика была частичной (тип D ) и позволяла выполнять повседневные нагрузки в ортостатическом положении. Больные с грубым или тотальным нарушениями функции спинного мозга (типов A , B и C ) в исследование не включались.
Для изучения характеристик сформировавшихся ригидных деформаций выполняли рентгенограммы позвоночного столба в двух стандартных проекциях, на которых измеряли угол локального (сегментарного) кифоза, а также наличие и степень смещения позвонков. Всем пациентам с ригидными посттравматическими деформациями грудного и поясничного отделов позвоночника в обязательном порядке выполняли КТ поврежденного сегмента позвоночного столба. При анализе КТ-сканов с последующей MPR- и 3D-реконструкцией учитывалось состояние позвоночного канала, а также структура костного блока на уровне травмы.
Систематизацию пациентов по характеру первичной травмы проводили в соответствии с классификацией AO/Spine (2013) [13]. Обследуемый контингент был разделен на две группы: I группа — больные с деформациями позвоночника на фоне повреждений типа А (40 пациентов — 50,0%); II группа — пациенты с последствиями травмы позвоночника типов В и С (40 пациентов — 50,0%).
Хирургическое лечение больных заключалось в последовательном выполнении ряда технических приемов: мобилизации, коррекции деформации и фиксации позвоночного столба в исправленном положении. Данные манипуляции осуществляли изолированно из вентрального доступа либо применяли комбинированные многоэтапные вмешательства.
При коррекции застарелых деформаций из вентрального доступа А ( anterior ) использовали классические оперативные подходы к боковой поверхности тел грудного и поясничного отделов позвоночника (торакотомия, торакофренотомия, торакофренолюмботомия, люмботомия), затем поврежденный позвонок вместе со смежными дисками и участком передней продольной связки резецировали. В случае необходимости осуществляли декомпрессию структур позвоночного канала. Выполненный таким образом передний релиз завершали коррекцией деформации позвоночника винтовой вентральной конструкцией и опорным спондилодезом.
В ряде случаев пациентам проводили двухэтапные хирургические вмешательства P/A ( posterior/anterior ), которые начинали из заднего срединного доступа к дорзальным структурам позвоночного столба. После скелетирования позвонков на вершине деформации осуществляли резекцию костно-фиброзного блока, а также при необходимости выполняли демонтаж ранее имплантированных металлоконструкций. После завершения задней мобилизации и послойного ушивания раны приступали к вентральному этапу хирургического лечения (см. выше).
Трехэтапные оперативные вмешательства выполняли в комбинации A/P/A ( anterior/posterior / anterior ). Данная последовательность доступов подразумевала использование дорзального корригирующего инструментария, соответственно, в первую очередь осуществляли вентральный релиз. Вторым этапом проводили мобилизацию костно-фиброзного блока из заднего доступа с последующей установкой транспедикулярной системы и коррекцией деформации позвоночника. Завершали хирургическое лечение передним спондилодезом.
В послеоперационный период все больные проходили стандартное восстановительное лечение, включавшее профилактику тромбоэмболических и инфекционных осложнений, а также обезболивание и физиофункциональное лечение.
При контрольном обследовании (в сроки 3, 6, 12 мес.) проводили анкетирование пациентов (ВАШ, ODI) и визуализацию позвоночника (спондилогра-фию, КТ-исследование). Ближайшие результаты хи- рургического лечения оценивали в период нахождения больных в стационаре, а отдаленные — спустя 12 мес. после операции.
Статистический анализ полученных данных проведен с помощью программ Statistica 10 и Microsoft Excel 2010 c пакетом прикладных программ. Оценка нормальности распределения проводилась с применением критерия Колмогорова — Смирнова, для всех параметров выявлено ненормальное распределение. Вследствие этого для представления итоговых количественных данных использовали медиану и квартили. Сравнение независимых групп проводили посредством методов непараметрической статистики (критерий χ2 Пирсона, U -критерий Манна — Уитни). Для связанных групп (до и через 12 мес. после операции) применяли критерий Вилкоксона; также оценивали парные корреляции Спирмена ( R ). Значимыми считали результаты при р <0,05.
Результаты . Застарелые посттравматические деформации грудного (42,5%, 17/40) и поясничного (57,5%, 23/40) отделов позвоночника у пациентов I группы были представлены изолированными кифозами без ротационного компонента и дислокации позвонков. В 37,5% случаев (15 из 40 пациентов (15/40)) данная патология возникла в результате несостоятельной металлофиксации острых повреждений позвоночного столба. Больные поступали на хирургическое лечение в среднем через 5 мес. после полученной травмы, медиана составила 148 (68–334; здесь и далее по тексту — квартили) сут. Перечень выполненных операций включал вентральные хирургические вмешательства (35,0%, 14/40), а также одномоментные двух- и трехэтапные хирургические пособия — 15 (6/40) и 50% (20/40) соответственно. Следует отметить, что во время двухэтапных операций у пациентов I группы резекцию остеолигаментозных структур (дорзальный релиз) не производили, а удаляли только ранее установленную металлоконструкцию.
Во II группу исследования вошли больные с ригидными многоплоскостными посттравматическими деформациями грудного (35,0%, 14/40) и поясничного (65,0%, 26/40) отделов позвоночника. Данная патология сформировалась у пациентов с нестабильной первичной травмой (типов B и C ) в результате необоснованного консервативного либо неудовлетворительного хирургического лечения (32,5%, 13/40). Срок с момента получения травмы у пациентов этой группы составил 168 (86–671) сут. В структуре хирургического лечения применяли трехэтапные оперативные вмешательства (50,0%, 20/40), а также использовали изолированные вентральные (12,5%, 5/40) и двухэтапные операции (37,5%, 15/40).
Проведенное исследование показало статистическую однородность I и II групп по полу, возрасту, давности и уровню травмы, а также типу фиксации. Учитывая исходное деление больных по тяжести первичной травмы, параметры, непосредственно характеризующие состояние позвоночного столба, имели значимые групповые различия (табл. 1).
Принимая во внимание разницу исходных характеристик посттравматических деформаций и качества жизни у пострадавших с разными типами повреждений, выполнено сравнительное исследование результатов оперативного лечения пациентов I и II групп. Полученные данные указывают на неоднозначность исходов хирургической реабилитации больных в этих группах. В частности, послеоперационные рентгенометрические параметры, а также показатели, характеризующие качество жизни значимо лучше у пациентов с повреждениями типа А (табл. 2).
Таблица 1
Сравнительная характеристика параметров в группах исследования
|
Параметр |
Группа |
p |
||
|
I |
II |
|||
|
Пол мужской, абс. (%) |
24 (60,0%) |
17 (42,5%) |
0,117 |
|
|
Возраст, лет |
39 лет (29–46) |
37 лет (26–50) |
0,513 |
|
|
Срок с момента травмы, сут. |
149 (68–334) |
168 (86–671) |
0,655 |
|
|
Уровень травмы, абс. (%) |
грудной |
17 (42,5%) |
14 (57,5%) |
0,491 |
|
поясничный |
23 (35,0%) |
26 (65,0%) |
0,517 |
|
|
Первичная металлофиксация, абс. (%) |
15 (37,5%) |
13 (32,5%) |
0,639 |
|
|
Тип фиксации, абс. (%) |
anterior posterior |
20 (50,0%) |
20 (50,0%) |
1,0 |
|
Степень кифоза, ° |
24,5 (20,0–26,8) |
32,5 (24,0–39,8) |
<0,001 |
|
|
Переднее смещение, абс. (%) |
0 (0%) |
34 (85%) |
0,001 |
|
|
ВАШ, балл |
5,0 (4,0–6,0) |
7,0 (6,0–8,0) |
<0,001 |
|
|
ODI, % |
40,0 (35,3–45,0) |
55,5 (49,3–62,8) |
||
Таблица 2
Результаты хирургического лечения больных в группах исследования
|
Параметр |
Группа |
p |
|
|
I |
II |
||
|
Степень коррекции, ° |
23,5 (20,0–25,0) |
26,5 (23,0–33,8) |
|
|
Степень потери коррекции, ° |
0,0 (0,0–1,0) |
2,0 (2,0–4,8) |
<0,001 |
|
Регресс болевого синдрома (ВАШ) после операции, балл |
2,0 (1,0–2,0) |
3,0 (2,0–3,0) |
|
|
Регресс болевого синдрома (ВАШ) через 12 мес. после операции, балл |
4,0 (4,0–5,0) |
6,0 (3,0–7,0) |
0,01 |
|
Динамика ODI через 12 мес. после операции, % |
7,0 (4,3–10,0) |
19,5 (14,0–40,8) |
|
|
Интраоперационная кровопотеря, мл |
925,0 (612,5–1100,0) |
1250,0 (1000,0–1400,0) |
<0,001 |
|
Длительность операции, мин |
160,0 (106,3–170,0) |
182,5 (150,0–227,5) |
|
|
Длительность госпитализации, сут. |
14,0 (12,0–14,0) |
14,0 (12,0–16,0) |
0,013 |
Таблица 3
Результаты анализа корреляционной зависимости результатов хирургического лечения от типа фиксации
|
Параметр |
Вариант операции (тип фиксации) |
|
|
группа |
||
|
I |
II |
|
|
Степень коррекции |
r =0,180 ( p =0,265) |
r =0,755 ( p <0,001) |
|
Степень потери коррекции |
r =0,074 ( p =0,651) |
r =0,677 ( p <0,001) |
|
ВАШ после операции |
r =0,733 ( p <0,001) |
r =0,090 ( p =0,580) |
|
ВАШ через 12 мес. после операции |
r =0,122 ( p =0,134) |
r =0,696 ( p <0,001) |
|
ODI через 12 мес. после операции |
r =0,237 ( p =0,141) |
r =0,693 ( p <0,001) |
|
Интраоперационная кровопотеря |
r =0,821 ( p <0,001) |
r =0,699 ( p <0,001) |
|
Длительность операции |
r =0,866 ( p <0,001) |
r =0,862 ( p <0,001) |
|
Длительность госпитализации |
r =0,161 ( p =0,321) |
r =0,411 ( p =0,008) |
При интерпретации данных возник вопрос: определяются ли результаты хирургической реабилитации больных только тяжестью травмы, или они также зависят от выполненной операции? Проведенный корреляционный анализ подтвердил влияние типа хирургического вмешательства (типа фиксации) на ряд исследуемых параметров (табл. 3).
Полученные данные указывают на зависимость результатов хирургического лечения больных с ригидными посттравматическими деформациями груд-
Таблица 4
Результаты использования вентральной и дорзальной металлофиксации у пациентов исследуемых групп
Резюмируя данные таблицы, можно сказать, что количественные параметры исходов хирургической реабилитации пациентов I группы укладываются в диапазон удовлетворительных значений, причем сравнение результатов использования вентрального и дорзального инструментариев не выявило значимых различий в степени коррекции кифотической деформации ( p =0,718) и ее потери через 12 мес. после операции ( p =0,779), а также в интенсивности болевого синдрома ( p =0,495) и качестве жизни пациентов ( p =0,157) в отдаленный период наблюдения. Следует отметить, что у пациентов I группы исходы передней и задней металлофиксаций различались выраженностью послеоперационного болевого синдрома ( p <0,001) и параметрами, характеризующими тяжесть оперативного вмешательства (интраоперационная кровопотеря, длительность операции) — p <0,001, при этом разницы в продолжительности госпитализации больных не выявлено ( p =0,289).
У больных с последствиями нестабильной травмы грудного и поясничного отделов позвоночника (II группа) анализ ближайших и отдаленных результатов хирургического лечения показал их неоднородность. В первую очередь данный факт был обусловлен разницей резидуального кифоза после вентральной 8,5° (2,0–15,8) и дорзальной 1,5° (1,0–2,0) коррекций ( p <0,001). Кроме того, степень рецидива кифотической деформации спустя 12 мес. после операции также зависела от варианта установки металлоконструкции ( p <0,001) — передняя фиксация допускала потерю коррекции до 4,5° (3,0–10,0), задняя — всего только до 1,0° (0,5–2,0). Исследование качества жизни пациентов II группы с вентральным и дорзальным «инструментированиями» позвоночника не выявило разницы в интенсивности болевого синдрома сразу после операции ( p =0,242), однако в отдаленный период наблюдения показатели ВАШ ( p =0,002) и ODI ( p <0,001) существенно отличались. Комбинированный доступ у больных с последствиями нестабильной травмы выполнялся в среднем за 182 (170–220) мин, что значимо превышало данные показатели у пациентов с вентральным хирургическим пособием — 150 (131–169) мин ( p <0,001). В то же время разницы в объеме интраоперационной кровопотери ( p =0,108) и существенного отличия в продолжительности госпитализации ( p =0,038) у этих больных не обнаружено.
Помимо оценки исходов хирургического лечения в группах исследования, проведено сравнение результатов передней и задней фиксаций отдельно у пациентов с последствиями стабильной и нестабильной травм позвоночника (табл. 4). Выявлено, что основные показатели эффективности дорзальных вмешательств у пострадавших I и II групп не имели статистически значимых различий ( p >0,005), за исключением несущественной разницы в длительности хирургического вмешательства ( p =0,038; разница Me — 12 мин) и продолжительности госпитализации ( p =0,013; разница Me — 1 день). Напротив, результаты вентральных операций значимо отличались у пациентов с последствиями стабильных (I группа) и нестабильных (II группа) повреждений ( p ≤0,001) по рентгенометрическим параметрам и по показателям, характеризующим качество жизни больных.
У пострадавших со сдвиговыми деформациями позвоночника (34 из 40 пациентов; 85%) проанализирован трансляционный потенциал вентральных (17/34) и дорзальных (17/34) металлоконструкций. Установлено, что дорзальный инструментарий позволил в 100% случаев (17/17) добиться полной коррекции смещения. Использование вентральных металлоконструкций способствовало достижению аналогичного результата трансляции только у 8 больных (47,1%; 8/17). Проведена также оценка сагиттальной сегментарной стабильности в отдаленный период наблюдения, которая показала отсутствие у всех пациентов с транспедикулярной фиксацией (20/20) вторичной дислокации позвонков. При вентральных вмешательствах признаки сегментарной нестабильности той или иной степени выраженности выявлены у 9 пациентов (45,0%; 9/20), в том числе у 3 больных с полноценной предшествующей коррекцией деформации.
В ранний послеоперационный период отмечен ряд общехирургических осложнений (8,8%, 7/80): постторакотомные плевриты — I группа — 1 пациент (2,5%), II группа — 2 больных (5,0%); раневая гематома I группа — 2 пациента (5,0%), II группа — 1 больной (2,5%); у 1 пациента из II группы (2,5%) зарегистрировано повреждение левого лимфатического ствола с последующей лимфореей в забрюшинное пространство. В ходе послеоперационной реабилитации у всех пациентов осложнения были купированы. Неврологических осложнений в обеих группах наблюдения отмечено не было.
Обсуждение. У пациентов с последствиями переломов позвонков типа A, ввиду изолированной травмы вентральных опорных структур, формируется передний костно-фиброзный блок. В данных условиях, как показало наше исследование, создаваемое на штангах вентральной металлоконструкции дистракционное усилие позволяет адекватно восстановить высоту поврежденного сегмента после мобилизующей резекции поврежденного позвонка. Тем не менее анализ литературных источников демонстрирует неоднозначность результатов использования передних винтовых систем при последствиях стабильной травмы грудного и поясничного отделов позвоночника [14]. В частности, ряд авторов отмечают высокий процент остаточных кифозов, ссылаясь на ограниченные технические возможности этой методики [15]. По нашему мнению, проблема неудовлетворительных исходов одноэтапной передней коррекции при простых фиксированных деформациях связана с дефектами диагностики и интерпретации типа первичного повреждения грудных и поясничных позвонков. Как следствие, при планировании этих операций часто не учитывается фактор первичной остеолигаментозной травмы дорзальных структур, которая приводит к формированию заднего костнофиброзного блока и, в свою очередь, препятствует проведению полноценного дистракционного маневра. Таким образом, выполненные по объективным показаниям одноэтапные вентральные вмешательства позволяют без предварительного дорзального релиза получить удовлетворительную редукцию застарелых (последствия повреждений типа А) сагиттальных деформаций позвоночного столба. При этом передние винтовые системы наряду с интактным задним остеолигаментозным комплексом обеспечивают надежную стабильность поврежденного сегмента позвоночника и благоприятный реабилитационный исход.
В случае этапных вмешательств (A/P/A) основным механизмом коррекции кифоза является редукционный маневр на транспедикулярной системе (2-й этап), который при условии предварительной моби-лизирующей резекции поврежденного позвонка (1-й этап) обладает высокой эффективностью. Другими словами, данный вариант хирургического лечения гарантирует положительный исход только в случае последовательного выполнения всех этапов, даже при простых ригидных кифотических деформациях. Нужно уточнить, что каждый из этапов представляет собой самостоятельное вмешательство со отдельным объемом операционной травмы, кровопотери и осложнениями. Согласно результатам проведенного исследования, использование у пациентов с последствиями стабильной травмы этапных операций значимо утяжеляет ранний восстановительный период по сравнению с одноэтапной вентральной коррекцией. В литературных источниках также приводятся данные о травматичности этапной хирургии [16]. В связи с чем возникает вопрос целесообразности использования многокомпонентных вмешательств у больных с умеренными ригидными посттравматическими кифозами. Мы считаем применение данного типа операций при последствиях стабильных повреждений (тип А ) неоправданно травматичным.
Использовать одноэтапные вентральные вмешательства для хирургического лечения пациентов с последствиями нестабильной травмы (типов В и С) грудного и поясничного отделов позвоночника большинство специалистов не рекомендуют, ссылаясь на неэффективность дистракционного маневра в условиях циркулярного костного блока [17, 18]. Выполненное исследование также демонстрирует неоднозначность исходов изолированной передней коррекции деформаций у пострадавших данной группы, что, по всей видимости, обусловлено морфологической разнотипностью патологии. В частности, сегментарные кифозы, которые встречаются при повреждениях типа B, нередко удовлетворительно корригируются при помощи вентральных систем. Тем не менее системно прогнозировать эффективность коррекции у данной категории больных можно только эмпирически по причине отсутствия этапа дорзальной мобилизирующей резекции. В связи с этим предварительное выполнение заднего релиза на вершине кифоза (операции типа P/A) кажется оправданным с точки зрения достижения гарантированного положительного результата. Однако необходимо учитывать тот факт, что мобилизация 360° — это перевод циркулярного блока в циркулярную нестабильность, при которой, как следует из данных проведенного исследования, винтовые вентральные системы не могут обеспечить надежной фиксации. Использование одноэтапных передних вмешательств для коррекции многоплоскостных деформаций апри- ори чревато неудовлетворительными результатами из-за низких трансляционных возможностей вентрального инструментария [19]. Таким образом, у пациентов с последствиями нестабильных повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника передняя коррекция может быть условно эффективна в отношении умеренных кифотических деформаций без «сдвигового» компонента. При этом если выполняется циркулярный релиз (posterior/anterior) следует обязательно учитывать существенный риск потери коррекции ввиду низкой устойчивости винтовых вентральных систем к аксиальным нагрузкам в условиях нарушенной целостности задних опорных структур. Избежать данного осложнения можно за счет расширения зоны фиксации, что, в свою очередь, существенно увеличивает травматичность операции. По-видимому, оптимальным методом хирургического лечения циркулярно блокированных (последствия травмы В и С) деформаций грудного и поясничного отделов позвоночника являются этапные вмешательства, в основе которых лежит транспедикулярная фиксация [20]. Использование у данной категории пациентов передних корригирующих операций нецелесообразно в связи с ограниченными возможностями вентрального инструментария и высоким риском сегментарной нестабильности.
Заключение. Положительный результат хирургического лечения больных с ригидными посттравматическими деформациями грудного и поясничного отделов позвоночника во многом определяется адекватным выбором способа металлофиксации. Вентральная коррекция — эффективный метод, который по праву можно использовать в комплексном хирургическом лечении этих пациентов, однако биомеханические особенности вентральных систем позволяют с успехом применять их только у больных с последствиями стабильной травмы. Транспедикулярный инструментарий при этапных хирургических вмешательствах обеспечивает стабильные удовлетворительные результаты при любых вариантах ригидных деформаций, но использование этих операций у пациентов с умеренными изолированными кифозами нерационально и неоправданно травматично. Таким образом, тип инструментализации поврежденного сегмента должен определяться дифференцированно с учетом характера первичной травмы и степени деформации позвоночника.
Список литературы Сравнительная характеристика методик хирургического лечения пациентов с ригидными посттравматическими деформациями грудного и поясничного отделов позвоночника
- O’Toole JE, Kaiser MG, Anderson PA, et al. Congress of neurological surgeons systematic review and evidence-based guidelines on the evaluation and treatment of patients with thoracolumbar spine trauma: executive summary. Neurosurgery 2019; 84 (1): 2–6. DOI: 10.1093 / neuros / nyy394.
- Pishnamaz M, Scholz M, Trobisch PD, et al. Posttraumatic deformity of the thoracolumbar spine. Unfallchirurg 2020; 123 (2): 143–54. DOI: 10.1007 / s00113‑019‑00764‑8.
- Dulaev AK, Manukovsky VA, Alikov ZYu, et al. Diagnosis and surgical treatment of adverse consequences of spinal trauma. Spine Surgery 2014; (1): 71–7. Russian (Дулаев А. К., Мануковский В. А., Аликов З. Ю. и др. Диагностика и хирургическое лечение неблагоприятных последствий позвоночно-спинномозговой травмы. Хирургия позвоночника 2014; (1): 71–7). DOI: 10.14531 / ss2014.1.71-77.
- Prudnikova OG, Khomchenkov MV. Post-traumatic deformities of the spine: relevance, problems, and revision surgery. Spine Surgery 2019; 16 (4): 36–44. Russian (Прудникова О. Г., Хомченков М. В. Посттравматические деформации позвоночника: актуальность, проблемы, ревизионная хирургия. Хирургия позвоночника 2019; 16 (4): 36–44). DOI: 10.14531 / ss2019.4.36–44.
- Cecchinato R, Berjano P, Damilano M, et al. Spinal osteotomies to treat post-traumatic thoracolumbar deformity. Eur J Orthop Surg Traumatol 2014; 24 (1): 31–7. DOI: 10.1007 / s00590‑014‑1464‑6.
- Hu W, Wang B, Run H, et al. Pedicle subtraction osteotomy and disc resection with cage placement in post-traumatic thoracolumbar kyphosis, a retrospective study. J Orthop Surg Res 2016; 11 (1): 112. DOI: 10.1186 / s13018‑016‑0447‑1.
- Olivares OB, Carrasco MV, Pinto GI, et al. Preoperative and postoperative sagittal alignment and compensatory mechanisms in patients with posttraumatic thoracolumbar deformities who undergo corrective surgeries. Int J Spine Surg 2021; 15 (3): 585–90. DOI: 10.14444 / 8079.
- Rerikh VV, Borzykh KO. Staged surgical treatment of posttraumatic deformities in the thoracic and lumbar spine. Spine Surgery 2016; 13 (4): 21–7. Russian (Рерих В. В., Борзых К. О. Этапное хирургическое лечение посттравматических деформаций грудного и поясничного отделов позвоночника. Хирургия позвоночника 2016; 13 (4): 21–7). DOI: 10.14531 / ss2016.4.21-27.
- Smits AJ, Deunk J, Bakker FC, et al. Thoracoscopic correction of post-traumatic kyphosis with an expandable cage: radiologic and patient-reported outcomes. Asian Spine J 2020; 14 (2): 157–68. DOI: 10.31616 / asj.2019.006222.
- Likhachev SV, Zaretskov VV, Shulga AE, et al. Injuries to the thoracolumbar junction: bibliometric analysis of English-language literature. Spine Surgery 2018; 15 (4): 52–69. Russian (Лихачев С. В., Зарецков В. В., Шульга А. Е. и др. Повреждения переходного грудопоясничного отдела позвоночника: библиометрический анализ англоязычной литературы. Хирургия позвоночника 2018; 15 (4): 52–69). DOI: 10.14531 / 2018.4.52-69.
- Dulaev AK, Kutyanov DI, Manukovskiy VA, et al. Decision-making and technical choice in instrumental fixation for neurologically uncomplicated isolated burst fractures of the thoracic and lumbar vertebrae. Spine Surgery 2019; 16 (2): 7–17. Russian (Дулаев А. К., Кутянов Д. И., Мануковский В. А. и др. Выбор тактики и технологии инструментальной фиксации при изолированных неосложненных взрывных переломах грудных и поясничных позвонков. Хирургия позвоночника 2019; 16 (2): 7–17). DOI: 10.14531 / ss2019.2.7-17.
- Smits AJ, Noor A, Bakker FC, et al. Thoracoscopic anterior stabilization for thoracolumbar fractures in patients without spinal cord injury: quality of life and long-term results. Eur Spine J 2018; 27 (7): 1593–603. DOI: 10.1007 / s00586‑018‑5571‑7.
- Aebi M. AO spine classification system for thoracolumbar fractures. Eur Spine J 2013; 22 (10): 2147–8. DOI: 10.1007 / s00586‑013‑3062‑4.
- Hempfing A, Zenner J, Ferraris L, et al. [Restoration of sagittal balance in treatment of thoracic and lumbar vertebral fractures]. Orthopade 2011; 40 (8): 690–702. DOI: 10.1007 / s00132‑011‑1796‑4.
- Li S, Li Z, Hua W, et al. Clinical outcome and surgical strategies for late post-traumatic kyphosis after failed thoracolumbar fracture operation: Case report and literature review. Medicine (Baltimore) 2017; 96 (49): e8770. DOI: 10.1097 / MD. 0000000000008770.
- Jäger M, Tassemeier T. The double-transforaminal lumbar interbody fusion: an innovative one-stage surgical technique for posterior kyphosis correction. Orthop Rev (Pavia) 2017; 9 (2): 51–5. DOI: 10.4081 / or.2017.7107.
- Wang Q, Xiu P, Zhong D, et al. Simultaneous posterior and anterior approaches with posterior vertebral wall preserved for rigid post-traumatic kyphosis in thoracolumbar spine. Spine 2012; 37 (17): 1085–91. DOI: 10.1097 / BRS. 0b013e318255e353.
- Wu H, Wang C–X, Gu C-Y, et al. Comparison of three different surgical approaches for treatment of thoracolumbar burst fracture. Chin J Traumatol 2013; 16 (1): 31–5. DOI: 10.3760 / cma.j.issn.1008–1275.2013.01.006.
- Wang S, Duan C-Y, Yang H, et al. Novel screw insertion method for anterior surgical treatment of unstable thoracolumbar fracture: quadrant positioning method. Orthop Surg 2019; 11 (4): 613–9. DOI: 10.1111 / os.1250621.
- Borzykh KO, Rerikh VV, Borin VV. Complications of the treatment of post-traumatic deformities of the thoracic and lumbar spine using staged surgical interventions. Spine Surgery 2020; 17 (1): 6–14. Russian (Борзых К. О., Рерих В. В., Борин В. В. Осложнения лечения посттравматических деформаций грудного и поясничного отделов позвоночника методом этапных хирургических вмешательств. Хирургия позвоночника 2020; 17 (1): 6–14). DOI: 10.14531 / ss2020.1.6-14.