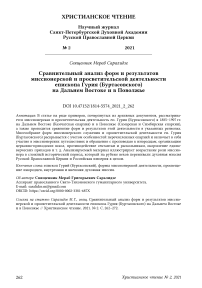Сравнительный анализ форм и результатов миссионерской и просветительской деятельности епископа Гурия (Буртасовского) на Дальнем Востоке и в Поволжье
Автор: Саралидзе Мераб Григорьевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 (97), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье на ряде примеров, почерпнутых из архивных документов, рассматривается миссионерская и просветительская деятельность еп. Гурия (Буртасовского) в 1885-1907 гг. на Дальнем Востоке (Камчатская епархия) и в Поволжье (Самарская и Симбирская епархии), а также проводится сравнение форм и результатов этой деятельности в указанных регионах. Многообразие форм миссионерского служения и просветительской деятельности еп. Гурия (Буртасовского) раскрывается с учетом особенностей перечисленных епархий и включает в себя участие в миссионерских путешествиях и обращение с проповедью к инородцам, организацию церковно-приходских школ, противодействие сектантам и раскольникам, окормление единоверческих приходов и т. д. Анализируемый материал иллюстрирует возрастание роли миссионера в сложный исторический период, который на рубеже веков переживали духовная миссия Русской Православной Церкви и Российская империя в целом.
Епископ гурий (буртасовский), формы миссионерской деятельности, просвещение инородцев, внутренняя и внешняя духовная миссия
Короткий адрес: https://sciup.org/140257048
IDR: 140257048 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_2_262
Текст научной статьи Сравнительный анализ форм и результатов миссионерской и просветительской деятельности епископа Гурия (Буртасовского) на Дальнем Востоке и в Поволжье
Graduate Student at St. Tikhon’s Orthodox University for the Humanities.
Епископ Гурий (Буртасовский; 1845–1907) принадлежит к плеяде выдающихся деятелей Русской Православной Церкви второй половины XIX — начала XX вв. Главный его вклад в историю распространения православия в Российской империи связан с обширной миссионерской деятельностью, которую он вел на Дальнем Востоке, в Сибири и в Поволжье. В 1885 г. владыка Гурий был назначен епископом Камчатским, Курильским и Благовещенским, в 1892-м — епископом Самарским и Ставропольским, а в 1904-м — епископом Симбирским и Сызранским [Липаков, 2006, 473]. Заметим, что в указанные годы отечественное миссионерское дело переживало период интенсивного развития, к которому его подталкивала возраставшая динамика исторического процесса.
Реформы Александра II послужили причиной активизации миссионерской деятельности в XIX в., поскольку благодаря этим государственным преобразованиям стало возможным возрождение приходов. Приходские общины постепенно становились самостоятельными и могли привлекать к миссионерскому служению не только представителей духовенства, но и мирян [Ефимов, 2007, 402]. Это обстоятельство объяснялось созданием многочисленных миссионерских братств, миссионерских и религиозно-просветительских обществ, ростом благотворительных и просветительских тенденций в самых разных регионах. Регулярно стали устраиваться съезды миссионеров — всероссийские, епархиальные, благочинные и уездные. Появились у миссионеров и свои периодические издания. В итоге все это вело к образованию новых приходов и епархий, открытию и освящению новых храмов, строительству церковно-приходских школ, благоприятно сказывалось на христианизации всё большего количества населения, среди которого были и представители коренных народов России. Перечисленные факторы укрепления православия были отмечены обер-прокурором Святейшего Синода К. П. Победоносцевым в его отчете за 1896–1897 гг. [Победоносцев, 1899, 74].
Каждая епархия имела свою политическую, социальную и географическую специфику, свои проблемы и пути их разрешения. Естественно, локальные условия и особенности напрямую влияли на меры и способы распространения православия в регионах, средства укрепления населения в вере и стратегии противодействия многочисленным сектантским движениям, которых к началу ХХ в. насчитывалось в России более сотни [Оленич, 2004, 95].
В Сибири и на Дальнем Востоке, характеризующихся обширными и не полностью освоенными территориями и низкой плотностью населения, духовные нужды населения и стоящие перед миссиями задачи отличались от аналогичных нужд и задач в других административно-территориальных единицах государства, особенно в европейской части последнего. Неудивительно, что в удаленных и труднодоступных регионах на первое место выходила необходимость строить новые храмы и церковноприходские школы, вести разъяснительные религиозные беседы с местным населением, собирать о нем сведения, вникать в особенности быта и культуры инородцев, что оказывалось весьма затруднительно в случаях, когда миссионер не знал языка того народа, к которому обращался с проповедью. Камчатская епархия являлась самой большой в мире, поэтому миссионерское служение в ней осложнялось, помимо всего прочего, пространственно-временными параметрами, непредсказуемостью природных стихий, их потенциальной опасностью для человека.
В Поволжье и на территории приуральских епархий существенным фактором, с которым приходилось считаться православным миссионерам, выступала исламизация населения, наиболее многочисленную группу которого составляли татары. Они строили мечети, исламские школы и активно занимались прозелитической деятельностью среди крещеных татар и представителей коренных народностей Поволжья. Положение Церкви и священнослужителей осложнялось и за счет широко распространившихся раскольничьих и сектантских течений (поповцев и беглопо-повцев, никудышников, беспоповцев, молокан, скопцов, хлыстов и ряда других), которые по состоянию на 1892 г. насчитывали в числе своих приверженцев во всех уездах только одной Самарской епархии 86,5 тыс. человек (Свод. сборник статистич.
сведений, 1892, 15). Как отмечает миссионер и публицист В. М. Скворцов, Поволжье представляло собой «едва ли не самый крупный и в то же время опасный, хотя и забытый очаг сектантства как рационалистического, так и особенно мистического; [был] силен в этом крае старообрядческий раскол» (Скворцов, 1887, 348, 350). Специфика Симбирской губернии, превосходившей по своей площади Самарскую, заключалась в том, что там, с одной стороны, было по сравнению с другими регионами Поволжья в несколько раз меньше раскольников и сектантов и больше православных (1,5 млн человек (Центральный статистич. комитет МВД, 1904, 177)), но, с другой стороны, период служения в Симбирской епархии преосвящ. Гурия (1904–1907) совпал со временем активизации революционного движения, один из центров которого находился в Симбирске, с возникновением угроз как для системы образования, представленной церковно-приходскими школами, школами грамоты и миссионерскими школами, так и для Церкви в целом и безопасности ее служителей.
Обратимся к рассмотрению конкретных форм миссионерской деятельности еп. Гурия в трех епархиях: Камчатской, Самарской и Симбирской. При этом сами формы и достигнутые результаты будут подвергаться сравнительному анализу исходя из общей региональной принадлежности епархий (Камчатская епархия — Дальний Восток; Самарская и Симбирская епархии — Поволжье). Поскольку деятельность владыки на трех кафедрах охватывает значительный период времени (1885–1907 гг.), то в рамках настоящей статьи мы коснемся ее основных моментов, наиболее подходящих для сравнительного анализа.
Начиная с осени 1885 г. на территории Камчатской епархии по инициативе преосвященного был утвержден праздник в честь особо почитаемой в Амурском крае чудотворной Албазинской иконы Божией Матери («Слово Плоть бысть»). (Первоначально икону привез в 1860 г. из Сретенска в Благовещенск основоположник миссионерской деятельности на Дальнем Востоке свт. Иннокентий (Вениаминов). — свящ. М. С. ) Этот праздник было утверждено отмечать 9 (22) марта. Тогда же, в 1885 г., возникла и традиция крестных ходов с иконой по городу, во время которых ее вносили в дома. Чудеса, происходившие от иконы, быстро становились известны во всем Приамурском крае. Это послужило поводом для многодневных крестных ходов со святыней в те села, из которых владыке приходили письменные просьбы жителей, их «общественные приговоры» о принесении чудотворной иконы. По благословению преосвящ. Гурия со святого образа для отправки в удаленные приходы было разрешено делать списки. Действенность таких крестных ходов служила мощным духовным импульсом, утверждающим православие и затрагивающим не только православных, но и представителей коренных народностей Дальнего Востока, а также раскольников и сектантов.
Одним из самых важных миссионерских путешествий еп. Гурия стала предпринятая им в декабре 1885 г. поездка по Охотскому побережью в сторону Камчатки. На этой обширной территории, ранее принадлежавшей Китаю, проживало инородческое население, которое в основном было представлено гиляками, маньчжурами, гольдами (нанайцами). Эти коренные народности придерживались анималистических верований, прибегали к шаманским практикам. Миссионер, который попадал в их среду, оказывался в сложной ситуации: он, будучи представителем своего времени с его техническим прогрессом и разнообразными достижениями науки, носителем современной культуры, оказывался рядом с людьми, которые во всех отношениях являлись другими и жили в мире, сильно отличавшемся от привычного для сознания миссионера.
Именно во время этого путешествия происходили поучительные случаи, свидетельствующие о готовности преосвящ. Гурия разнообразить существующие формы и стратегии миссионерской работы с инородцами. Осматривая инородческие фанзы, владыка обращал внимание на наличие в них святых икон или языческих идолов. Так, в избранной для беседы фанзе в деревне Мынган икон не было. Инородцы честно признались, что их в этой деревне вообще ни у кого нет. Также и на самих крещеных гольдах не было нательных крестиков. Владыка Гурий вступил с ними в доверительную беседу и объяснил всё наблюдаемое влиянием шаманов. В итоге он сделал вывод, что в фанзе непременно где-нибудь находится идольское изображение. Как оказалось, на передней стене действительно висел деревянный идол. Владыка собственноручно его снял и, чтобы продемонстрировать бессилие идола, бросил в печь. Гольды, особенно женщины и дети, со страхом туда заглядывали, опасаясь кары от своего божества. Кроме того, обнаружились и другие идолы меньших размеров — они висели у колыбели младенца. Там же находилась и голова убитого филина — она служила якобы для охраны ребенка. Владыка был чрезвычайно взволнован тем обстоятельством, что гольды, будучи крещеными, продолжали поклоняться истуканам и демонстрировали анималистическое мировосприятие. Поэтому он попросил уголь и изобразил на ближайшей к нему стене Крест Господень и пропел перед ним тропари: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка™» и «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое™». Еп. Гурий растолковал инородцам значение Креста Господня, подчеркивая его силу прогонять бесов и злых духов, поведал о страданиях Иисуса Христа, о Его воскресении из мертвых. Затем по предложению владыки один из гольдов также нарисовал на стене Крест. Вскоре гольды стали увлеченно состязаться друг с другом в том, кто лучше изобразит на стене Крест. Прощаясь, владыка увещевал гольдов, чтобы они ни под каким предлогом не пускали к себе в дома шаманов, не держали идолов и не навлекали на себя гнев Божий за идолопоклонство, чтобы в каждой фанзе имели Крест Господень, перед которым бы молились и утром и вечером, чтобы на груди у каждого был крестик и чтобы в деревне на видном месте поставили Крест, который служил бы доказательством того, что здесь живут христиане (ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 40. Л. 6-7). Мы видим, что в описанном случае миссионер обратился к игровому началу, присущему представителям одной из народностей Камчатки. Сами же нанайцы вели себя так, как дети, которые открыты миру и готовы перенять от вводящих их в него взрослых опыт и знание. Подобный контакт миссионера с представителями коренного народа позволил осуществить их «выключение из „обыденной“ жизни» [Хёйзинга, 1992, 34] и сформировать через игру представления о символах и понятиях христианского вероучения.
Любопытным примером миссионерской деятельности еп. Гурия на Дальнем Востоке выступает его распоряжение об открытии храма особого типа. В целях удовлетворения духовных нужд якутов и эвенков, кочевавших по берегам реки Бурея и по берегам ее притоков, в 1891 г. состоялось открытие Ниманского походного храма, для службы в котором был специально направлен священник-миссионер [Ермацанс, 2006, 133].
Придавая большое значение созданию на территории Камчатской епархии миссионерских и церковно-приходских школ, преосвящ. Гурий, беседуя с инородцами, всегда старался убедить их отдавать детей в эти школы. Там они могли бы получить элементарное образование, не испытывая какого-либо стеснения из-за отправления свойственных культуре своего народа обычаев. Однако со временем выпускники таких школ могли бы стать посредниками христианского просвещения среди самих инородцев.
К 1887 г. при большинстве расположенных на Амуре станов, в том числе и при корейских станах, действовали миссионерские школы. Таким образом, дети инородцев получили возможность обучаться русскому языку, чтению, арифметике, Закону Божию. В общей сложности, к указанному году в миссионерских школах обучалось 145 учеников (Прибавление к Иркутск. епарх. вед., 1887, 226).
Согласно оценке иркутского историка Л. Н. Харченко, главным положительным последствием распространения во время служения еп. Гурия миссионерских школ стал их вклад в народное образование: «Часто являясь единственными учебными заведениями в отдаленных местностях, они выполняли роль культурных центров, давая возможность получить не только основы грамотности, но и необходимые сведения по медицине, гигиене, сельскому хозяйству и т. п.» [Харченко, 2004, 122].
Итогом просветительской деятельности владыки на Камчатской кафедре стал ряд преобразований, затронувших как формальную, так и содержательную стороны учебного процесса. Так, в кратчайшие сроки было построено новое трехэтажное здание Благовещенской духовной семинарии; был выведен на должный уровень учебный процесс; в курс обучения был введен такой предмет, как миссиология.
Отметим также один из имевших место случаев взаимодействия с государством при обращении сектантов в православие. В 1889 г. преосвященный крестил в домовой церкви архиерейского дома сектанта-молоканина, который больше двадцати лет руководил духоборческой общиной. Вместе с ним была крещена и вся его семья. Во время совершения самого таинства была применена беспрецедентная мера безопасности: чтобы предупредить покушения со стороны сектантов, вокруг дома выставили оцепление из полицейских казаков. Подобная необходимость диктовалась тем, что молокане жестоко преследовали своих бывших собратьев, принявших православие.
В Поволжье, а именно в Самарской епархии, одной из главных проблем, стоявших перед священнослужителями, была проблема искоренения языческих обрядов, распространенных в чувашских приходах вопреки христианизации этого народа, имевшей место в середине XVIII в. [БСЭ, 1978, XXIX, 239]. Так, после праздника Святой Троицы чуваши часто устраивали свой праздник под названием Учуг, который обычно сопровождался жертвоприношениями рогатого скота. Подобные отголоски племенных культов отрицательно влияли на чувашей, принявших православие, ставя в их глазах под сомнение систему христианских ценностей. Владыка призывал местных священников объединить свои усилия для борьбы с подобными языческими обрядами. Главным средством противодействия им становились церковные проповеди и беседы в церковно-приходских школах. Еп. Гурий подчеркивал, что слова священника адресованы не только взрослым, но и детям, а потому им надлежит быть понятными и запоминающимися. Более того, дети, в принципе, могут составлять главную аудиторию, к которой обращены священнические внушения, направленные против языческого мировоззрения.
Проиллюстрируем сказанное примером. Однажды на уроке в церковно-приходской школе Самарской епархии ученик, услышав от учителя, что нельзя поклоняться языческим идолам, проникся его словами и был впечатлен образами Божией кары, о которых также услышал от учителя. Придя домой, он нашел у своей матери спрятанного в сундуке «иыйриха» (идола. — свящ. М. С. ), который имел вид куклы, украшенной бусами, и незамедлительно выбросил его в реку. Когда мать вернулась домой и узнала о поступке сына, она побежала к реке и, плача, начала оправдываться: «Иыйрих! Я не виновата, прости меня, не взыскивай с меня, не наказывай разными болезнями и скорбями» (Самарск. епарх. вед., приложение, 1903, 8). Этот случай иллюстрирует то, насколько продуктивным могло быть влияние миссионерского слова на детское сознание, а также то, до какой степени мышление взрослого человека может сохранять свою инертность. Таким образом, ориентированность преосвященного на непредвзятость детского восприятия выглядит полностью оправданной.
Рассмотрим другие случаи взаимодействия еп. Гурия с населением, дающие представление о его миссионерской стратегии. Посещая чувашское село Ибрайкино, которое ранее не посещал ни один самарский архипастырь, владыка отслужил в нем водосвятный молебен на славянском и чувашском языках, окропил пришедших святой водой и произнес архипастырское слово, в котором убеждал жителей надеяться только на Бога, веровать в Господа Иисуса Христа, искать у Него заступничества, забыть своих идолов и не прибегать впредь к их помощи. Преосвященный наказал всем жителям села обращаться с духовными нуждами исключительно к священнику. Особая просьба была адресована владыкой родителям — обратить внимание на церковный хор. При этом он произнес следующее: «Посмотрите на учеников, которые пели в церковном хоре, они славили Господа и участвовали в службе Божией, а неграмотные стояли, как немые» (Самарск. епарх. вед., 1900, № 16, 996). Нетрудно догадаться, что апеллирование к грамотности отдельных хористов выступало красноречивым аргументом в пользу обучения в церковно-приходских школах, а само церковное пение выступало прекрасным дополнением к проповеди, оказывающим эстетическое воздействие на слушающих.
Не вызывает сомнений, что миссионерская деятельность еп. Гурия в отношении инородцев Самарской епархии может оцениваться положительно. В целом, некрещеные инородцы стали гораздо доверчивее относиться к священникам и церковным школам, стали проявлять интерес к богослужению и к церковным песнопениям; крещеные же инородцы постепенно отвыкали от языческих верований и обрядов, избавлялись от идолов, оставляли практики языческих жертвоприношений. Совершались и нравственные преобразования: инородцы оставляли незаконное сожительство, стали отказываться от пьянства. Вместе с этим закономерно возрастало их расположение к Церкви, они охотнее посещали храмы, присутствовали на богослужениях, соблюдали праздники и посты, исповедовались и причащались (Самарск. епарх. вед., приложение, 1903, 23-26). Обратимся к статическим данным за 1901 г. Священники инородческих приходов повенчали за указанный период 108 пар, в которых ранее наблюдалось незаконное сожительство, обратили в христианство 16 человек, а также — 31 мусульманина. Следовательно, общий итог — 47 новообращенных душ обоего пола (Самарск. епарх. вед., приложение, 1902, 1-30). При этом многие крещеные татары (например, татары прихода села Абдулино) были очень рады, поскольку у них появился свой храм, в который они регулярно ходили на службы, проводимые на их родном языке.
Уже на следующий год священники инородческих приходов Самарской епархии провели венчание 59 незаконно сожительствовавших пар. В христианство было обращено 15 язычников, 18 мусульман, а также 8 евреев; менее интенсивной стала пропаганда ислама, имелись и случаи обращения мусульман в лоно Православной Церкви (ГАУО. Ф. 722. Оп. 1. Д. 163. Л. 31.).
Благодаря усилиям еп. Гурия на территории Самарской епархии начиная с 1895 года было построено 172 школы, 52 из которых были церковно-приходскими, а 120 — школами грамоты. Все это стало возможным благодаря финансовой помощи населения — лишь 1/20 часть общей суммы, израсходованной на строительство (130 тыс. руб.), была выделена Епархиальным училищным советом (Самарск. епарх. вед., 1903, №7, 171). При этом важно пояснить, что владыка непосредственно не призывал население вносить денежные суммы на строительство школ, он лишь проводил беседы о преимуществах получения начального образования. Следовательно, столь активное участие прихожан в деле развития просвещения в Поволжье являлось практически полностью их самостоятельным решением и в некотором смысле позволяло говорить о началах самоуправления на местном уровне.
В последующие годы строительство школ не прекращалось, наоборот, всё большее количество христиан, в том числе и новообращенных, проявляло заинтересованность в развитии образования. В итоге за восемь лет было выстроено более 600 церковных школ. Штат учителей, обслуживающих эти школы, состоял преимущественно из священников. Так, в 1901/1902 учебном году их было 354, а учителей-диаконов — до 100 человек (Самарск. епарх. вед., 1903, № 7, 171). Само количество церковных школ увеличилось за годы служения владыки в Самарской епархии более чем в два раза — с 515 до 1227 (Самарск. епарх. вед., 1903, № 7, 118).
Особого внимания заслуживает миссионерская деятельность преосвящ. Гурия в Поволжье в отношении старообрядцев. Владыка стал первым Самарским епископом, который начал служить в единоверческих храмах по древним книгам и с соблюдением старообрядческого чинопоследования. Это снискало ему доверие и уважение местных старообрядцев; многие из них со временем становились единоверцами. Такое проведение служб выступает хорошим примером миссионерской стратегии владыки, ориентированной не только на местные условия, но и на тип мышления мирян, с которыми необходимо было вступать в контакт. Авторитет архипастыря и задушевность его бесед, проводимых во время миссионерских поездок по епархии, оказывали вразумляющее воздействие на приверженцев старого обряда. Например, при служении в единоверческой самарской церкви 8 июля преосвященный в своей архипастырской беседе во время литургии весьма вразумительно объяснял, что спасает человека не двоеперстие или троеперстие и подобные священные знаки или атрибуты, но само пребывание его в истинной Церкви, свидетельствуемое участием в таинствах и подчинением священноначалию. При этом тщательность и щепетильность в соблюдении одних обрядов, пусть и самых древних, без принадлежности к единой Церкви не спасает человека.
В Поволжье преосвящ. Гурий проводил также и освящения единоверческих храмов. Одно из них состоялось по просьбе единоверцев города Бугуруслана и его окрестных селений 5 сентября 1893 г. Бугурусланский единоверческий храм был освящен владыкой в сослужении шести священников, трое из которых были единоверцами. В богослужении принимали участие диакон Самарской городской единоверческой церкви и певчие из числа единоверческих псаломщиков и певцов. Показательно, что первое богослужение совершалось по чинопоследованию старообрядческих богослужебных книг.
Архипастырь не уставал объяснять единоверцам в проповедях, в своем назидательном слове и в частных беседах важность и необходимость получения каждым человеком вечного спасения, для чего требуется его принадлежность к единой Церкви. Об этом владыка говорил и в своем обращении к прихожанам во время Божественной литургии в новоосвященном храме Бугуруслана. Еп. Гурий пояснил всем присутствующим, что сохраняющиеся у единоверцев особенности в проведении обрядов никак не могут препятствовать и православному христианину получить спасение в Единоверческой Церкви. Для подтверждения сказанного он сослался на собственное участие в богослужении по древним обрядам и на участие в нем трех других священнослужителей. Известно, что личный пример всегда оказывает более сильное и запоминающееся воздействие, чем отсылки к чужому опыту.
Беседуя с единоверцами, владыка постоянно напоминал о безотрадном положении тех раскольников, которые были лишены возможности получать благодатные силы, поскольку находились вне Церкви, и предостерегал всех от увлечения их учением. Обращаясь к самим этим раскольникам, преосвященный мягко предлагал им оставить свои убеждения и соединиться с Православной Церковью на правах единоверия, благодаря чему они не претерпят никакого вреда в отношении столь почитаемой ими старины. По свидетельству «Самарских епархиальных ведомостей», во время назидательной речи, произнесенной в Бугурусланском единоверческом храме, слова владыки при всей своей краткости и простоте были исполнены вдохновения, дышали властностью и произвели на всех слушателей очень сильное впечатление (Самарск. епарх. вед., приложение, 1894, 6–7).
Картина миссионерской деятельности еп. Гурия в Поволжье окажется неполной без упоминания его служения в Симбирской епархии. В некоторых чувашских деревнях этой епархии, в частности в деревне Падиково, священнослужители, как стало известно преосвященному, совершали в угоду прихожанам языческие обряды. Пообещав прихожанам назначить такого пастыря, который смог бы проводить богослужения на родном для них чувашском языке, архипастырь провел анализ причин, по которым произошло смешение православия и язычества в деревне, и пришел к заключению, что главная из них заключалась в совсем небольшой вместительности двух местных храмов. Именно отсутствие свободного места в изначально тесном пространстве удерживало многих желающих приобщиться к православию чувашей от этого шага, поэтому они по привычке продолжали отправлять языческие обряды. Распорядившись расширить храмы, владыка настоял и на необходимости открытия школы грамоты, чему местное население было очень радо.
Ход исторического процесса вносил свои коррективы в осуществление просветительской деятельности в Поволжье. В 1905 г. в Симбирской губернии стихийно набирало силу революционное движение: в различных населенных пунктах проходили митинги, устраивались многочисленные демонстрации, резко возрастало количество забастовок. Крестьянские массы проявляли политическую активность благодаря большевистской агитации. В своих донесениях уездные исправники докладывали об обнаружении в селах антиправительственных листовок, издаваемых социал-демократическими организациями Симбирска и Сызрани. В силу всех этих причин церковная жизнь в приходах и церковно-школьное образование могли если не полностью замереть, то, во всяком случае, существенно ослабнуть. Становилось все меньше священнослужителей и учителей. Однако благодаря неустанным заботам и вниманию преосвященного именно в беспокойном 1905 г. количество школ не только не сократилось, но и, наоборот, возросло. Так, по сравнению с 1904 г., к церковно-приходским школам прибавилось семь новых, а к школам грамоты — пять [Сурминский, 1909, 128]. Для того чтобы получить более полное представление о епархиальных церковных школах, о качестве преподавания и получаемых учащимися знаниях, равно как и для принятия мер по улучшению образования владыка назначил специальные экзаменационные комиссии, в обязанность которых входило проведение экзаменов во всех без исключения церковных школах (Симбирск. епарх. вед. 1905. № 5. С. 132).
Однако, невзирая на все принятые меры, к 1906 г. в епархии постепенно стали закрываться как церковно-приходские школы, так и школы грамоты. Помимо политических причин, это могло происходить и из-за неурожаев, нехватки средств для содержания школ, отсутствия педагогов. Владыка распоряжался привлекать к участию в образовательной деятельности штатных диаконов и псаломщиков. Приведем фрагмент резолюции преосвященного на письме настоятеля Вознесенского собора Симбирска прот. Льва Марсальского: «1) При трехчленном составе городских церквей диаконы должны быть правоспособны и усердны к учительству. <...> 2) При четырехчленном составе: при двух священниках и двух псаломщиках — один из последних должен быть способен к учительству и усердному обучению детей в церковно-приходских школах, в учебное время они должны быть освобождены от обязанности псаломщика» (ГАУО. Ф. 134. Оп. 3. Д. 878. Л. 3). Такие нововведения претворялись в жизнь, что положительно сказывалось и на самом обучении, и на увеличении охвата учащихся.
Очевидно, что миссионерская и просветительская деятельность еп. Гурия не может быть сведена к единому перечню приемов и стратегий и принимает ту или иную направленность в зависимости от конкретного региона. Такая гибкость обусловлена общей гуманистической ориентированностью миссионерского служения владыки, отсутствием с его стороны предубеждений при взаимодействии как с православными, так и с раскольниками, язычниками, мусульманами и представителями сектантских течений, а также, помимо всего остального, — свободой от мешающих коммуникации стереотипов. Таким образом, миссионерская осознанность и открытость миссионерского сознания выступают гарантами успешного осуществления как внутренней, так и внешней миссии.
Миссионерское служение и просветительская активность преосвящ. Гурия на Дальнем Востоке строились, в первую очередь, в соответствии с требованиями внешней миссии, тогда как в Поволжье — внутренней. Статистические данные, включающие в себя количество обращенных в православие (как иноверцев, так и язычников), число церковных школ и учащихся в них, показатели работы среди старообрядцев, позволяют говорить о более успешных результатах миссии в епархиях Поволжья. Однако нельзя забывать о том, что данные территории, в отличие от Камчатской епархии, характеризовались гораздо большей плотностью населения.
В целом, можно назвать следующие основные формы миссионерской и просветительской деятельности преосвященного. На Дальнем Востоке это: а) организация крестных ходов и общественных молений; б) проведение среди язычников разъяснительных бесед с игровыми элементами; в) открытие походных храмов; г) содействие в организации церковных школ (церковно-приходских и школ грамоты); д) сотрудничество с государством в отдельных случаях обращения сектантов в православие.
В Поволжье: а) проведение частых проповедей и церковных бесед; б) организация и совершенствование (через назначение специальных экзаменационных комиссий) работы церковных школ; в) совершение богослужений в единоверческих храмах в соответствии со старообрядческими канонами; г) привлечение к образовательному процессу в церковных школах штатных диаконов и псаломщиков.
Обращает на себя внимание забота еп. Гурия о том, чтобы его пасторское слово было правильно услышано и воспринято детьми. Это говорит о прекрасном понимании владыкой возросшей в стремительно меняющемся историческом контексте значимости контакта между поколениями при передаче духовных ценностей.
Формы и стратегии миссионерской и просветительской деятельности еп. Гурия на Дальнем Востоке и в Поволжье в полной мере соответствуют задачам духовной миссии в сложный исторический период и даже предвосхищают их (из наиболее близких в хронологическом отношении к эпохе смены государственного строя источников см., напр., проект устава об устройстве внутренней миссии Православной Церкви 1919 г. (Кравецкий, 2011, 620–628)). Они не теряют своей актуальности в наши дни, что свидетельствует в пользу их результативности и непреходящей ценности.
Список литературы Сравнительный анализ форм и результатов миссионерской и просветительской деятельности епископа Гурия (Буртасовского) на Дальнем Востоке и в Поволжье
- БСЭ (1978) — Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. Т. 29: Чаган — Экс-ле-Бен. М., 1978.
- ГАУО — Государственный архив Ульяновской области. Ф. 134. Оп. 3. Д. 878. Л. 3; Ф. 722. Оп. 1. Д. 40. Л. 6-7; Ф. 722. Оп. 1. Д. 163. Л. 31.
- Ермацанс (2006) — Ермацанс И.А. Индустриализация РПЦ на Дальнем Востоке во второй половине XIX века — начала ХХ века по материалам развития Камчатской и Благовещенской епархии. Дис. ... канд. филос. наук. Благовещенск, 2006.
- Ефимов (2007) — Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М., 2007.
- Кравецкий (2011) — Кравецкий А. Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диалогом). М., 2011.
- Липаков (2006) — ЛипаковЕ.В. Гурий // Православная энциклопедия. М., 2006. Т.КШ.
- Оленич (2004) — Оленин Т. С. Трансформация русского религиозного сектантства в контексте современного философско-культурологического знания. Ростов н/Д., 2004.
- Победоносцев (1899) — ПобедоносцевК.П. Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания за 1896-1897 гг. СПб., 1899.
- Прибавление к Иркутск. епарх. вед. (1887) — Прибавление к Иркутским епархиальным ведомостям. Иркутск, 1887.
- Самарск. епарх. вед. (1900) — Самарские епархиальные ведомости. 1900. № 16.
- Самарск. епарх. вед. (1903) — Самарские епархиальные ведомости. 1903. № 7.
- Самарск. епарх. вед., приложение (1894) — Самарские епархиальные ведомости. 1894. Приложение. Отчет Самарского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1893 год.
- Самарск. епарх. вед., приложение (1902) — Самарские епархиальные ведомости. 1902. Приложение. Отчет Самарского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1901 год.
- Самарск. епарх. вед., приложение (1903) — Самарские епархиальные ведомости. 1903. Приложение. Отчет Самарского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1902 год.
- Свод. сборник статистич. сведений (1892) — Сводный сборник статистических сведений по Самарской губернии. Самара, 1892. Т. 8. Вып. 1.
- Симбирские епархиальные ведомости — Симбирские епархиальные ведомости. 1905. № 5.
- Скворцов (1887) — Скворцов В. К предстоящему всероссийскому миссионерскому съезду // Миссионерское обозрение. 1887. Кн. 1.
- Сурминский (1909) — Сурминский А.П., свящ. Симбирские церковные школы за 18841908 годы. Симбирск, 1909.
- Харченко (2004) — Харченко Л.Н. Миссионерская деятельность православной церкви в Сибири (вторая половина XIX в. — февраль 1917 г.): очерк истории. СПб., 2004.
- Хёйзинга (1992) — Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
- Центральный статистич. комитет МВД (1904) — Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел: 1899-1905. Симбирская губерния. 1904 год. Т. 10. СПб., 1904.