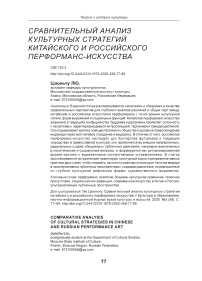Сравнительный анализ культурных стратегий китайского и российского перформанс-искусства
Автор: Лю Цзюньчу
Журнал: Культура и образование @cult-obraz-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 3 (58), 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются «аскетизм» и «безумие» в качестве сравнительных перспектив для глубокого анализа различий и общих черт между китайским и российским искусством перформанса с точки зрения культурной логики, форм выражения и социальных функций. Китайское перформанс-искусство укоренено в традициях конфуцианства, буддизма и даосизма и проявляет склонность к «аскетизму», характеризующемуся интроспекцией, терпением и самодисциплиной. Оно подчеркивает критику «овеществленного» общества и духовное превосхождение индивида через молчаливое страдание и выдержку. В отличие от него, российское перформанс-искусство наследует дух бунтарства футуризма и традицию «юродства» в православной культуре; оно проявляется во внешне направленных, радикальных и даже «безумных» публичных действиях, напрямую вовлеченных в политические и социальные вопросы, и формируется как ритуализированная форма критики с выраженными коллективными устремлениями. В статье прослеживаются исторические траектории, культурные корни и репрезентативные практики двух стран, чтобы показать, как они по-разному используют тело как медиум в «альтернативных публичных пространствах», создавая различные, но равноценные по глубине культурной рефлексии формы художественного выражения.
Перформанс, аскетизм, безумие, культурное сравнение, телесное присутствие, социальная интервенция, современное искусство в Китае и России, альтернативные публичные пространства
Короткий адрес: https://sciup.org/144163578
IDR: 144163578 | УДК: 130.2 | DOI: 10.2441/2310-1679-2025-358-77-89
Текст научной статьи Сравнительный анализ культурных стратегий китайского и российского перформанс-искусства
Искусство перформанса, как форма художественной практики, использующая тело в качестве непосредственного медиума, в различных культурных контекстах приобретает разные смысловые акценты. В китайской традиции само понятие акцентирует два ключевых аспекта: телесное действие как практика и социальное деяние как форма вмешательства. Такая трактовка изначально дистанцировала перформанс от фиктивности традиционного театра и одновременно подчеркнула его публичный характер. Это предопределило внутреннюю связь китайского перформанса с социальным исследованием, индивидуальным высказыванием и культурной критикой.
В современной художественной практике Китая и России перформанс проявляется через ярко выраженное «присутствие тела» и «социальную вовлеченность», что принципиально отличает его от искусства спектакля, ориентированного преимущественно на эстетическое созерцание. Его философские основания восходят к «феноменологии восприятия» Мориса Мерло-Понти, утверждавшего: «Только когда я реализую функции тела, я становлюсь телом, устремленным к миру; только тогда я могу понять, что значит иметь тело» [5, c. 109]. Мысль Мерло-Понти стимулировала художников использовать телесный опыт как методологию для соединения тела и мира через социальное вмешательство.
Американская философ Нэнси Фрейзер в статье «Переосмысление публичной сферы» предложила концепцию «альтернативной публичной сферы». Она отмечала: «Члены подчинённых социальных групп изобретают и распространяют контр-дискурсы, формируя тем самым оппозиционные интерпретации своей идентичности, интересов и потребностей» [10, c. 67].
В рамках художественной культуры перформанс не принадлежит к мейнстриму, напротив, его само существование изначально связано с оппозицией к господствующей эстетической культуре. Художники-перформеры часто оказываются в положении маргинальных субъектов, что автоматически относит их к «подчиненным социальным группам». Фрейзер подчеркивала двойственный характер «контр-публичных сфер»: с одной стороны, они служат пространством для отступления и перегруппировки сил, с другой – выступают базой и «тренировочной площадкой» для агитации, направленной на более широкую аудиторию [10, c. 68]. Таким образом, созданные маргинализированными группами «альтернативные публичные пространства» функционируют параллельно с официальной публичной сферой и обеспечивают развитие оппозиционных дискурсов и формирование идентичности.
Исходя из этого тело как медиум приобретает ключевое значение в искусстве перформанса. Художники исследуют его функциональность и посредством «телесного присутствия» создают «альтернативное пространство», в котором возможно свободное выражение ценностей.
Жан-Франсуа Лиотар в работе «Состояние постмодерна» предложил концепцию «краха больших нарративов», что открывает еще один ракурс для понимания перформанса. Большие нарративы рушатся под тяжестью внутренних противоречий и провалов исторической практики, люди перестают верить, что единое повествование способно объяснить и регламентировать всю реальность, «Становится всё труднее отождествлять себя с великими именами и современными героями. Выдвижение жизненных целей, борьба за великие идеалы также с трудом пробуждают в людях энтузиазм к «самопожертвованию», поскольку жизненные цели по своей сути определяются самостоятельно. Это заставляет каждого вернуться к себе и осознать свою незначительность» [3, c. 35].
В этом контексте художественное выражение перестаёт зависеть от идеи исторического прогресса или универсальной истины и обращается к «малым нарративам», локальным и временным. Перформанс является ярким воплощением именно таких «малых нарративов», поскольку сосредоточен на индивидуальном, телесном, локальном опыте, который трудно передать средствами обыденного языка. В этом заключается его «дикость» и критический потенциал. В широком смысле можно сказать, что перформанс использует тело как повествовательный знак, формирует дискурсивные процессы через динамическое или статическое, реальное или виртуальное, репрезентативное или экспрессивное присутствие тела, преследуя цели выражения, коммуникации и распространения.
Таким образом, данное исследование направлено на сравнительный анализ культурной логики и практических форм китайского и российского перформанса. Особое внимание уделяется тому, как в контексте национальных традиций, социальных трансформаций и идейных ресурсов каждая из сторон вырабатывает собственную телесную риторику и стратегии аскезы, что позволяет выявить мотивацию художественного творчества в обеих культурах.
Российское искусство перформанса можно проследить, начиная с уличных поэтических акций русского футуризма в начале ХХ века. На протяжении всего своего становления оно было тесно связано с социальными противоречиями и реальностью страны. В советский период художники нередко прибегали к метафорическим и абстрактным формам, чтобы избежать прямой политической конфронтации. Характерным примером здесь является деятельность группы «Коллективные действия». В условиях общественных потрясений и трансформаций перформанс в России стал более радикальным: тело стало инструментом деконструкции истории. Это проявилось в творчестве Олега Кулика и группы «Синие носы», использовавших «безумные» формы художественного выражения. После 2000-х годов российский перформанс приобрёл ещё более «экстремальный» характер, направленный на провоцирование общественного резонанса.
Возникновение перформанса в Китае обычно связывают с июнем 1986 года, когда арт-группа «Пруд-общество» (Pond Society) в рамках «Движения ’85» провела ряд перформанс-акций [4, c. 20]. В том же году на выставке «Салон южных художников» был впервые представлен широкий спектр китайского перформанса. С конца 1980-х до 1990-х годов этот художественный язык постепенно осваивался всё большим числом авторов. При этом изначально коллективные практики сменялись более личностными и индивидуализированными формами в середине 1990-х годов. На фоне напряжения между рыночной трансформацией и идеологическим контролем в Китае 1990-х годов появились радикальные телесные практики, наиболее известными представителями которых стали Чжан Хуан и Хэ Юньчан. Художники применяли стратегии самоповреждения, насилия и табу для вызова общественных дискуссий и стремительно расширяли своё влияние.
С исторической точки зрения, и в России, и в Китае перформанс возник в условиях социальных трансформаций и культурной рефлексии. Эти процессы были тесно связаны с модернизацией и движениями за культурное освобождение в обеих странах. Оба направления прошли путь от коллективных форм выражения к индивидуализированным и телесным практикам. Несмотря на общую установку на телесное присутствие и социальную критику, их развитие во многом различалось.
Российское перформанс-искусство имеет более длительную историческую преемственность и ярко выраженную традицию публичного действия. Оно отличается радикальностью и насыщенностью политическими метафорами, а также более тесно связано с международными авангардными тенденциями. Китайский же перформанс появился значительно позже; его формы также были подвержены радикализации, однако он в большей степени исходил из внутренних процессов художественного сообщества, что и обусловило его специфику. Эти различия и сходства в траекториях развития дают возможность более глубоко понять культурную логику и духовные ориентиры перформанса в обеих странах.
Под влиянием западных концепций перформанса в России разработался публичный критический язык, характеризующийся «безумием». Российский футуризм, являясь одним из истоков перформанса, оказал значительное влияние на развитие всего направления. В «Манифесте и программе русского футуризма» указывалось, что это движение представляет собой сложное, противоречивое и внутренне конфликтное явление. Различные группировки внутри футуризма спорили о праве представлять «подлинное будущее искусство» [6]. Максим Горький отмечал, что ценность футуристического движения заключается не в единстве концепции, а в готовности художников разрушать устоявшиеся нормы и выходить на улицы, к народу, наполняя искусство живой энергией [2]. Лев Троцкий в работе «Литература и революция» писал, что значение футуризма состоит в разрыве с замкнутыми культурными кругами прошлого и в противостоянии консервативной культуре; вместе с тем он отмечал и угрозу отрыва футуризма от широких масс вследствие чрезмерного увлечения методологией деконструкции [9, c. 115].
Венская акционистская группа является одним из факторов, повлиявших на российское перформанс-искусство. Представитель этого направления, Герман Нитши, в своей наиболее знаковой работе «Мистерия разврата» создаёт ощущение сильного «перцептивного» воздействия. Этот вид искусства, без сомнения, пробуждает у зрителя чувство дискомфорта, которое можно понимать как психологическую «небезопасность», хотя сам художник утверждает, что демонстрирует чисто личный опыт эмоционального выплеска. Однако, учитывая травматический опыт художника, связанный с войной, данное воспроизведение психологических и социальных травм становится художественным. «Выплеск» является лишь внешним проявлением; настоящей целью является пробуждение ощущения «небезопасности». Метод демонстрации через «интенсивность» и «дискомфорт» оказал влияние на мотивацию последующих российских перформанс-художников. Это явление можно объяснить через теорию «жестокого театра» французского драматурга Антонина Арто. Под «жестокостью» Арто понимал способ постановки, погружающий зрителя в некую дикую, иррациональную форму сознания. В работе 1938 года «Театр и его двойник» (The Theatre and Its Double) он призывал создать театр, ориентированный на эмоциональный выплеск, заменяющий традиционный рациональный, элитарный театр, подавляющий чувства человека. С помощью ритуализированных магических действий звук и движения тела доводятся до предела, позволяя зрителю пережить опыт, сравнимый с духовным просветлением [8]. Анализ показывает, что такой способ выражения через жестокий выплеск совпадает с российскими культурными нарративами «страдания» и концепцией «искупления». Русский феномен
«святого дурака» отличается от западного христианского индивидуального искупления; здесь публичное самоунижение вызывает коллективное осмысление и тесно связано с православным акцентом на «спасение общины». В традиции русского «святого дурака» человек намеренно выглядит глупым и безумным, обнажает мирские ценности, скрывает свои добродетели и подвергает себя унижению и страданиям, чтобы доказать свою преданность («глупеть ради Христа»). «Телесное присутствие» в перформансе является самым непосредственным способом выражения такого аскетического духа.
Характерным примером служит серия акций Олега Кулика «Человек-собака». Художник имитирует «безумное» поведение собак, воспроизводит их привычки, используя «телесное присутствие» как прямое средство взаимодействия со зрителем: он ползает голым и атакует публику. В зависимости от типа объекта он демонстрирует различные реакции, затем фиксирует и собирает эти реакции, которые впоследствии становятся основой для дальнейших решений в его перформанс-искусстве. Когда Кулик неожиданно появляется на улице обнаженным и начинает имитировать движения собак, либо живёт в выставочном пространстве за границей совместно с животными на приглашенных международных выставках, создавая эффект смешения человеческой и звериной идентичности, он при этом разрушает выставочные объекты и работы других художников. Художник принуждает всех участников художественной системы и все объекты стать частью перформанса. Посредством специального сценографического подхода (закрытое пространство, непредсказуемое взаимодействие) он усиливает воздействие своей работы и создает ощущение давления на зрителя. Все эти методы напрямую соотносятся с концепцией «жестокого театра» Антонина Арто.
Через «телесную звериную природу» – безумные движения, звуки и другие действия – Кулик полностью «выплескивает» энергию своего перформанса, объединяя всё внутри «театра» и создавая пространство, сконструированное самим художником. Его безумные выступления на улицах и в галереях представляют собой насильственное вторжение и временную трансформацию публичного пространства, создавая кратковременное, тревожное «альтернативное пространство», в котором публика сталкивается с проблемами, которые обычно избегает. В созданном художником пространстве «собака» и «человек» символизируют явные отношения господства и подчинения. Такая трансформация телесного поведения заставляет зрителей в состоянии страха и любопытства осмысливать природу человеческой сущности, выявляя «животное» в человеке и социальные классовые отношения между людьми. В отличие от наглядной текстовой проповеди, художник использует метод самоунижения, намеренно проявляя безумие и глупость, чтобы вызвать реакцию публики и через гипертрофированное поведение выразить призыв к моральному возвращению человека к природе добра – это отражает аскетическую логику православного принципа «глупеть ради Христа».
Работы Кулика изменяются в зависимости от социальной реакции. После строгого запрета со стороны институций он начинает носить намордник, чтобы предотвратить укусы, продолжая появляться в публичных пространствах. Каждое произведение становится своего рода мини-нарративом, вызывающим любопытство публики, а его творчество развивается вместе с восприятием зрителей. Такая «небезопасность», которую испытывает аудитория, перекликается с методами Венской акционистской группы. Сначала художник создает чувство дискомфорта и опасности через укусы и разрушения, затем в следующем перформансе надевает намордник, физически предотвращая укусы, сохраняя импульс «звериного» поведения, но превращая его в безвредный и комичный образ. Через эти последовательные действия Кулик заставляет зрителей задуматься о природе «безопасности» и комфорта, их происхождении и значении.
Серия работ Олега Кулика также имеет множество весьма символичных названий, например, «Я кусаю Америку, Америка кусает меня». Художник создал «Партию животных» и даже выдвигался на пост президента, что является абсурдным, но показательным действием. Эти поступки отражают хаотичную связь художника с обществом. Тематическое направление его работ тесно связано с публичным высказыванием, международными отношениями, демократическими выборами и другими социальными вопросами. Анализируя эту серию перформансов, можно заметить, что тематика художника постепенно развивалась от размышлений о человеческой природе и социальных противоречиях к политико-социальному уровню.
Художник явно трансформирует концепцию русского «святого дурака» и православную традицию «страдания и искупления» в критику современной цивилизации. Это делает его работы более символичными и открытыми для интерпретации. Методология Кулика в современном искусстве заключается в совершении всего, что нарушает «правила». Он считает, что если искусство будет стремиться исключительно к авангардности, интересности или модности, оно со временем превратится в классику (классическое искусство). Для него художественное творчество коренится в радикальных представлениях футуристического анти-традиционного подхода.
В отличие от Кулика, группа «Синие носы» предпочитала использовать гротеск и сатиру. Их проекты, такие как «Космический балет» или «Избирательный карнавал», снижали пафос политических символов, превращая серьезные темы в абсурдные сцены. Таким образом, художники вводили перформанс в пространство массовой культуры, делая его ироничной формой социальной критики.
Другим примером стала деятельность коллектива «Что делать?». Художники и активисты организовывали совместные акции с рабочими, включая уличные демонстрации и перформативные оккупации публичных пространств. Подобные «партизанские действия» можно рассматривать как форму «соци- альной скульптуры», где коллективное тело становится носителем политических идей, а сама акция – экспериментом по созданию новых общественных отношений.
Таким образом, российский перформанс в традиции «безумия» сочетает в себе элементы футуристического радикализма, акционистской телесности и православного юродства. Его формы – от шокирующих жестоких акций до сатирических и гротескных спектаклей – неизменно направлены на вскрытие социальных противоречий и коллективное переживание кризисов общества.
В отличие от экстравертированности и «безумия» российского перформанса, китайская практика перформанса демонстрирует совершенно иную, интровертированную и «аскетичную» направленность.
По сравнению с западными художественными концепциями философская основа китайского искусства строится на диалектическом осмыслении западной философии и традиционной китайской философской и культурной мысли. Хотя некоторые аспекты перформанс-искусства имеют определенное сходство с древними китайскими ритуалами и магическими практиками, появление китайского перформанс-искусства было вдохновлено западным концептуальным искусством. При адаптации западных философских или художественных концепций к местному контексту китайские художники чаще стремятся находить соответствия и сочетания в собственной традиционной мыслительной и культурной базе. Китайское перформанс-искусство является отражением традиционной китайской философской и культурной мысли и служит инструментом её интерпретации.
В ранний период китайское перформанс-искусство преимущественно возникало в форме коллективов и групп; чисто индивидуальные формы перформанса были относительно редки, а использование исключительно телесного художественного языка практически отсутствовало, что было во многом связано с тогдашними условиями. Китайский искусствовед Гао Минлу, говоря о культурных корнях китайского искусства, отмечал: «Эта концепция не ограничивается индивидуальными телесными действиями, она также относится к соблюдению определенных моральных норм индивидом внутри конкретной социальной группы. Это связано с коллективистской идеологией эпохи Мао Цзэдуна и конфуцианской традицией Китая. В этих традициях чисто индивидуальное поведение отсутствует, все индивидуальные действия социальны, и каждое индивидуальное действие отражает определенный тип социального поведения» [1, c. 159]. Китайские перформанс-художники сосредотачивают критическую фокусировку на социальном состоянии, возникшем под влиянием коллективистской идеологии.
Строго говоря, с конца 1980-х до начала 1990-х годов так называемое китайское перформанс-искусство заимствовало лишь внешние формы перформанса и не имело чётких языковых характеристик. Перформанс был полностью хаотичным, произвольным и в большей степени представлял собой протест и удар по старым, закрытым художественным формам. Таким образом, китайское перформанс-искусство 1980-х годов практически акцентировало внимание на протесте против ценностей «объективации себя». «Пруд-общество» (Pond Society) как первая группа китайского перформанс-искусства в своём манифесте подчеркивало «чистоту» и «торжественность» искусства [4, c. 21]. Первоначальной целью их действий было освободиться от традиционных академических эстетических ценностей и стремление к более разнообразным эстетическим ориентирам. Они пытались выйти за пределы идеологических ограничений тематики коллективистских нарративов в мейнстримном искусстве, вернуть «искусство ради искусства» и преодолеть ограниченность, связанную с доминирующей в Китае станковой живописью. Строго говоря, «Сообщество Чи» не выходило на «сцену», они выражали свои намерения через оставленные следы действий и отдельные высказывания, что представляло собой ограниченные действия без активного участия публики.
Художники Ван Ду, Линь Илинь и другие в рамках выставки «Первый экспериментальный показ Южного художественного салона» создали в китайском художественном сообществе работы, которые считаются первыми официально представленными перформанс-проектами в публичном поле. Художники оборачивали свои тела белой тканью, изображая собой керамические изделия, стояли на коленях на подиуме и располагались рядом с другими керамическими объектами, исследуя проблему «объективации». С этого момента китайские перформанс-художники особенно часто использовали метод оборачивания тела для своих работ. Так, серии «Тканевые скульптуры на улицах Шанхая. Человек·Жёлтая ткань·Окружение» и «Тайная вечеря» стали характерными примерами раннего оборачивания собственного тела. Художники оборачивали себя тканью красного, черного или белого цвета, имитируя позы персонажей «Тайной вечери» Да Винчи, чтобы сатирически отразить «патерналистскую» структуру китайского общества.
Основную часть художников составляли студенты, поскольку влияние «социальной дисциплины» проявляется более явно через подавление индивидуальности в школьной среде. Поэтому этот вид перформанса проявлялся в «публичном» пространстве повседневной жизни. Дух «анти-контроля» сочетался с наследием западного классического искусства, создавая прямое и грубое выражение. В этот период перформанс-искусство выполняло три функции: во-первых, отражало гуманистические идеи; во-вторых, выражало потребность в свободном творчестве; в-третьих, демонстрировало существующее состояние художника. В целом можно сказать, что мотивация к созданию работ формировалась вокруг противоречия между личным опытом художника и социальными публичными пространствами.
Конфуцианская доктрина в Китае требует, чтобы индивид через самодисциплину адаптировался к социальному порядку. Китайские религии, например, буддизм, подчеркивают, что лишь через тяжёлую аскезу можно закалить разум и приобрести ценность освобождения от мирских страданий, тогда как даосская концепция «единства человека и природы» акцентирует гармонию между человеческим существованием и природой. Эти культурные корни оказали влияние на способы выражения китайского перформанс-искусства, которое часто передает критику через терпение, молчание и другие сдержанные формы, используя аскезу и дисциплину для демонстрации отношений между людьми и между человеком и обществом. В результате появляется большое количество статических и повторяющихся перформансов, все они несут смысл «самообучения» и внутренней практики. При адаптации западных философских или художественных концепций к местным условиям китайские художники стремятся находить соответствия и сочетания в собственной традиционной культурной и философской базе. Китайское перформанс-искусство является отражением традиционной китайской философской и культурной мысли, а сама китайская культура служит инструментом интерпретации китайского перформанс-искусства и составляет его основную логическую основу.
Таким образом, после 1990 года в Китае появляется большое количество художественных произведений, критикующих традиционные культурные концепции. В работе Чжан Хуана «Двенадцать квадратных метров» художник, полностью обнажённый, покрывает своё тело мёдом и тихо сидит в грязном общественном туалете, терпя постоянные укусы мух. Статичность тела здесь превращается в «живую скульптуру». Его творческая практика является формой воплощения традиционной китайской философской и культурной мысли: художник с помощью длительного неподвижного сидения преодолевает суровую среду, демонстрируя концепцию «тяжёлой аскезы» китайских религий. Выбор места проведения работы отражает социальное положение китайских перформанс-художников как маргинальных субъектов и воплощает идеи конфуцианства о «самодисциплине» и «победе над личными желаниями». Через «телесное присутствие» художник проявляет экстремальную интерпретацию даосского принципа «единства человека и природы», достигая искаженной гармонии с окружающей средой. Хотя перформанс Чжан Хуана выглядит статичным и сдержанным, выбор общественного туалета как маргинального, нехудожественного пространства также создает альтернативное пространство взгляда, превращая игнорируемый грязный уголок в критическое поле, заставляющее размышлять о цене модернизации. Произведение символизирует, что человеку требуется огромная цена, чтобы адаптироваться к обществу, и метафорически отражает психологическое состояние индивида в условиях социального перехода. Эта «растерянность» может быть преодолена только через «тяжёлую аскезу».
Западные СМИ оценивали работы Чжан Хуана как метафору молчаливых страданий низших слоев населения в процессе модернизации; внешние наблюдатели считали это проекцией коллективной социальной травмы. Мёд в перформансе Чжан Хуана является, безусловно, ключевым символическим носителем идеи произведения, наряду с самим художником. Мёд как аттрактант должен символизировать что-то прекрасное; покрывая тело мёдом, художник наделяет себя уникальностью, желая быть принятой и привлекательной фигурой. Однако «привлекаются» мухи – символ грязи, что отражает противоречивое отношение художника к коллективным связям: одновременно желание принадлежать и стремление сопротивляться. Сочетание сладости мёда и запаха туалета создает контраст, отражающий психологическое состояние художника как маргинала: стремление быть принятым коллективом и страх дисциплинирования со стороны общества.
Судя по словам самого художника, визуальный эффект работы возник из воспоминания о детстве, из грязного уголка под шумным мегаполисом Пекина. Его «аскеза» была реализована как ритуал в этом созданном им пространстве. Художник утверждает, что через уединение и самопожертвование он может преодолеть страх и достичь внутреннего спокойствия. Из этого следует, что Чжан Хуан рассматривает перформанс как форму аскетической медитации, в ходе которой он получает освобождение от мирских страданий.
Таким образом, работы Чжан Хуана можно рассматривать как микрокосм традиционной китайской культуры в практике человеческого общества: ценности конфуцианского терпения и преодоления страданий и буддийская потребность в духовном освобождении через аскезу.
Хэ Юньчан выступает против этих традиционных китайских философских и культурных представлений. Его работа «Диалог с водой» демонстрирует, как художник многократно разрезает реку своим телом. Этим он пытается показать, что «аскеза» – лишь бесполезное усилие. В этом перформансе вода холодна и пронизывающе ледяная, а повторяющиеся движения создают серьезную нагрузку на тело, однако художник преодолевает боль через терпение, чтобы донести до зрителей свою мысль. Через самоистязательное действие он показывает: тело является как инструментом сопротивления, так и объектом воздействия природной стихии; активность тела здесь становится иронией и сомнением относительно традиционного нарратива «человек побеждает природу».
Существуют и другие аналогичные работы, но не будем приводить их все. С точки зрения методологии, творческая практика китайских художников может быть сведена к трем этапам: сначала – мучение тела (белая ткань, пчёлы), затем – помещение себя в различные сцены (водоём, туалет), и наконец – неподвижность или повторение одного действия. Китайские художники создают работы через перемещение тела и «объекта», используя метафору и символ для выражения собственного жизненного опыта и положения художника в обществе. Через превращение тела в конкретные объекты они сопротивляются «объективации»; через перформанс-среду они создают метафору влияния окружающей социальной среды на свои ощущения и демонстрируют выбор, сделанный художником в этих условиях.
Традиционные китайские культурные и философские идеи составляют ядро их работ, а «противодействие объективации» является основной целью китайского перформанс-искусства. Эта цель, однако, обязательно строится на практике терпения и преодоления боли, то есть на аскезе.
В заключение следует отметить, что китайское и российское перформанс-искусство имеют как общие черты, так и существенные различия в происхождении, стадии развития и способах социального вмешательства. Общим является то, что оба направления возникли в период социальных трансформаций, тесно связаны с процессом модернизации и культурными движениями в соответствующих странах, а также прошли путь от коллективного выражения к индивидуальному языку тела; художественные практики характеризуются сильной социальной направленностью и критическим отношением к реальности.
Различия проявляются в том, что российский перформанс имеет более давние исторические корни и ярко выраженную традицию публичных действий, его радикальность и политическая метафоричность более выражены, часто напрямую откликаясь на международные авангардные течения. Китайский перформанс возник позже, в большей степени опирается на самосознание местных художественных групп; хотя его формы выражения также могут быть экстремальными, они чаще акцентируют внутренний опыт тела и скрытый диалог с культурными традициями, проявляя эстетическую направленность на рефлексию и интроспекцию.
Отношение к культуре в российском и китайском перформанс-искусстве является сложным и противоречивым. Оба направления черпают методологию из собственной традиционной культуры и практикуют «аскетизм» в рамках своей культурной традиции. Эти традиционные философские и культурные представления укоренены в подсознании художников и через «тело» как медиум преобразуются в художественный язык, передавая сенсорный опыт.
В российском перформансе преобладает «внешняя» культурная экспрессия, унаследованная от футуризма и традиции уличного перформанса. Публичность российских работ наглядно демонстрирует эту особенность. Независимо от того, проявляется ли работа через «безумие» или «игровую» форму, на неё влияют религиозно-культурные ценности. В российском перформансе «страдание тела» становится ритуалом духовного очищения и приобретает оттенок коллективного искупления; через интенсивные действия демонстрируется противоречивое отношение к прошлому и современному обществу. Эта демонстрация является внешним проявлением противоречий периода социальных трансформаций. За «безумным» обликом скрывается серьёзность.
Китайский перформанс исходит из принципа «противодействия объективации»; от обёртывания тела до самоистязательных действий он всегда сосредоточен на индивидуальных проблемах выживания и свободы. Китайские художники используют эффект «обёртывания» для внутреннего выражения, ориентируясь на собственный визуальный опыт. Как и российские художники, они исходят из традиционной культурной мысли Китая, но чаще опираются на личный жизненный опыт, демонстрируя противоречие между внешней сдержанностью и внутренними интенсивными эмоциями. Таким образом, китайский перформанс проявляет неопределённый внешний образ.
Хотя и китайские, и российские художники создают «замещающие пространства» через «телесное присутствие», эти пространства различаются по характеру. В отличие от «смелой» деконструкции культуры в России, отношение китайских художников к культуре скрыто глубоко в произведении. Их подход к культуре чаще проявляется через позицию «жертвы», метафорически отражая дисциплинарное воздействие культуры и идеологии. По сути, это форма сопротивления традиционной культуре, основанная на концепции «терпения», и представляет собой интровертную деконструкцию, критическая направленность которой скрыта под видимым терпением и даже саморазрушительными, патологическими признаками.