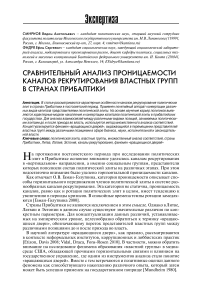Сравнительный анализ проницаемости каналов рекрутирования властных групп в странах Прибалтики
Автор: Смирнов Вадим Анатольевич, Фидря Ефим Сергеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 9, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются характерные особенности каналов рекрутирования политических элит в странах Прибалтики в постсоветский период. Применен понятийный аппарат конвертации различных видов капитала представителями политической элиты. На основе изучения карьер политиков выявляются характерные модели накопления и конвертации капиталов политической элиты в прибалтийских государствах. Для анализа взаимосвязей между различными видами позиций, занимаемых политическими элитами до и после прихода во власть, используется метод множественного анализа соответствий. Концептуализируется феномен «вращающихся дверей», выражающийся в перемещении представителей властных групп между различными позициями в сфере бизнеса, науки, исполнительной и законодательной власти.
Политическая элита, властные группы, множественный анализ соответствий, страны прибалтики, литва, латвия, эстония, каналы рекрутирования, феномен "вращающихся дверей"
Короткий адрес: https://sciup.org/170168567
IDR: 170168567
Текст научной статьи Сравнительный анализ проницаемости каналов рекрутирования властных групп в странах Прибалтики
Н а протяжении постсоветского периода при исследовании политических элит в Прибалтике основное внимание уделялось каналам рекрутирования в «вертикальном» направлении, а именно социальным группам, представители которых пополняли состав политической элиты на различных этапах. При этом недостаточно внимания было уделено горизонтальной проницаемости каналов.
Как отмечает О.В. Гаман-Голутвина, категория проницаемости описывает способы горизонтального передвижения членов политической элиты в системе разнообразных каналов рекрутирования. Эта категория не статична, проницаемость каналов, равно как и ротация политических элит в целом, имеет тенденцию к увеличению в периоды кризисов. В спокойные времена темпы ротации замедляются [Гаман-Голутвина 2000].
Страны Прибалтики не являются исключением в этом смысле. Однако в Литве, Латвии и Эстонии в данном случае существуют значительные различия по конкретным параметрам. Для концептуализации данных различий, устанавливаемых на эмпирическом уровне, целесообразно обратиться к термину «вращающиеся двери», обозначающему переток представителей властных групп между различными позициями до и после прихода во власть.
В научной литературе «вращающиеся двери», как правило, рассматриваются в контексте неформальных институтов, коррупционных и лоббистских практик [Etizon, Davis 2008; Vidal, Draca, Fons-Rosen 2010]. В частности, можно обратить внимание на исследование феномена образования «властной группы» в медиасреде США, обладающей прочными горизонтальными связями и влиянием на государственное управление, где одним из инструментов анализа стало понятие «вращающихся дверей». Вместе с тем встречаются и позитивные оценки данного феномена как способствующего накоплению различного опыта, который затем может быть успешно применен на государственном поприще [Mundheim 1980].
В отношении стран Прибалтики отечественные ученые сравнительные исследования феномена «вращающихся дверей» не проводили. Поэтому в фокусе настоящей статьи – эмпирический анализ «вращающихся дверей» в прибалтийской политике с точки зрения конвертации различных капиталов представителями властных групп на пути во власть и после оставления политических позиций.
Методология исследования
Помимо «старой» партийной номенклатуры, одним из основных каналов рекрутирования для властных групп стран Прибалтики, формировавшихся после провозглашения ими независимости, стали общественные институты, связанные с наукой и образованием, культурой и искусством, из которых вышли так называемые политики морали. Другим важным каналом стал бизнес, роль которого в рекрутинге политиков Литвы, Латвии и Эстонии последовательно возрастала на протяжении постсоветского периода. Соответственно, именно эти каналы – общественная и частная сфера – послужили основными объектами нашего внимания в изучении проницаемости властных групп стран Прибалтики – входов и выходов из «вращающихся дверей» политических элит и накопления ими соответствующих видов капитала.
Эмпирическая часть данной статьи основывается на анализе опыта работы в общественной и частной сфере до прихода во власть (первичные позиции); в первичных политических структурах, в которых политики занимали посты, войдя во власть; позиций в общественных или бизнес-структурах после ухода из власти (вторичные позиции) и, наконец, в политических структурах, в которые представители властных групп возвращались для возобновления политической карьеры (вторичные политические позиции).
К политическим элитам мы относим акторов (индивидуальных или групповых), которые благодаря преимуществу своего стратегического положения, занимаемого в крупных организациях, считаются ведущими, способными оказывать постоянное и значительное влияние на политические результаты [Хигли 2011: 35]. В качестве членов политической элиты нами рассматриваются те, кто занимал в период с 1992 по 2015 г. в соответствии с конституционным дизайном страны следующие позиции во властных структурах (парламент, правительство, аппарат президента): президенты, премьер-министры, председатели законодательных собраний, вице-премьеры, вице-спикеры, министры (занимающие свои посты не менее 1 года – данное ограничение введено в связи с большим числом правительственных кризисов, смен кабинетов на начальном этапе), лидеры основных политических партий (имеющих фракции в парламенте) и депутаты, занимающие места в парламенте не менее 2 сроков.
В случае Литвы объем выборки составил 179 представителей властных групп, где 71 политик представляет правительство, 35 чел. являются президентами и представителями администрации, а 73 представляют парламент. Объем выборки политических элит Латвии составил 146 случаев, где для 84 политиков первичной политической структурой явилось правительство, для 57 – парламент, для 3 – президентские структуры, по 1 – муниципальные институты и институты Евросоюза. Выборка политических элит Эстонии составила 228 случаев, где для 8 политиков первичной политической структурой явилась президентура, для 83 – правител ьство, для 137 – парламент1.
Литва: конвертация символического капитала в политический
Только в 23,5% случаев до своей политической карьеры исследуемые занимали позиции в социально-гуманитарной сфере, причем подавляющее большинство работали в научно-исследовательских и образовательных организациях (17,8%). В частной сфере до начала карьеры в органах власти работали 21,2% политиков, однако сферы их занятости существенно разнообразнее: наибольшая часть политиков (суммарно 10,7%) до политической карьеры были заняты в «реальном секторе» (промышленность, энергетика, сельское хозяйство, строительство, транспорт); 5,6% политиков начинали свою карьеру в сфере финансов и консалтинга; еще 5% до начала политической карьеры занимались медиабизнесом (средства массовой информации и телекоммуникации).
Анализ первичных и вторичных политических структур также показывает значительное совпадение точек входа и последующего возврата в политические элиты. Для существенной части политиков уход из власти оказался временным: в различные политические структуры вернулись 67,6% членов правительства, 62,8% членов президентской команды, 79,5% депутатов сейма.
Для сопоставления и анализа взаимосвязей между различными видами позиций мы воспользовались методом множественного анализа соответствий1.
По результатам множественного анализа соответствий первичные и вторичные позиции литовских политиков, занимаемые ими в пространстве власти, бизнеса и в общественной сфере, группируются по двум основным осям – горизонтальная отражает оппозицию между символическим капиталом и экономическим, вертикальная – между политическим и административным.
Структурная близость переменных, отражающих позиции в общественном, политическом и бизнес-пространстве, показывает, что для литовских политиков характерно повторное возвращение в те же сферы и структуры – и властные, и коммерческие, и общественные, – в которых они уже состояли. Выявить наиболее типичные траектории конвертации капитала участниками политического пространства и оценить степень проницаемости властных групп позволяет кластерный анализ2.
На основании значений структурно-позиционных переменных нами выявлено 4 характерных кластера. Первый включает наиболее типичную (71%) категорию политиков, большинство из которых не работали до прихода во власть в бизнес-структурах, но сравнительно часто обладали академическим опытом и после приобретения первого политического опыта либо окончательно вернулись в академическую сферу, либо перешли в сейм. Второй (16%) объединяет политиков, имевших опыт руководства промышленными предприятиями и пришедших в политику через сейм, а затем либо вернувшихся в реальный сектор, либо конвертировавших свой политический и экономический капитал в занятие руководящих позиций на муниципальном уровне. Два последних кластера составляют довольно специфические траектории: в случае третьего кластера (10%) политики, пришедшие во власть из частных структур (в основном из медиа), значительно чаще выбирали в дальнейшем дипломатическую карьеру, а четвертый кластер (3%) составили исключительно президенты.
Латвия: замыкание в политическом пространстве
В отличие от Литвы, довольно значительная часть латвийских политиков (56,8%) до прихода во власть имели опыт работы в социально-гуманитарной сфере: как правило, это позиции в секторе образования и науки (30,1%), а также здравоохранения (8,9%), культуры (7,5%), охраны правопорядка (6,8%), в общественных организациях и ассоциациях (3,5%).
В бизнесе до прихода во власть было занято меньшее число членов политических элит Латвии (46,6%), однако их доля вдвое выше, чем аналогичный показатель для Литвы. Наибольшая часть будущих политиков получали бизнес-опыт в сфере финансов и консалтинга (19,2%). В реальном секторе были заняты 15,1%, в сфере коммуникаций – 10,9%.
Уровень сохранения политического и административного капитала после первого прекращения или прерывания политической карьеры оказался достаточно высоким. Например, среди членов сейма 93% затем продолжили политическую карьеру в тех или иных властных институтах (в частности, в сейм вернулись 52,6%), среди членов правительства процент возврата во власть – 70,2% (однако только 17,9% из них вернулись именно в правительственные структуры).
Итоги множественного анализа соответствий структурно-позиционных переменных латвийских политиков выделяют по горизонтальной оси оппозицию между символическим капиталом и экономическим, а по вертикальной – между политическим и административным.
Результаты кластерного анализа показали, что в отличие от литовского политического пространства, где четко доминирует одна траектория конвертации политического и административного капитала, в латвийском политическом пространстве 4 основных кластера разворачиваются относительно равномерно.
Первый кластер (28,8%) составляют преимущественно выходцы из сектора финансов и консалтинга, не связанные с общественной сферой ни до прихода в политику, ни после и продолжившие свою постполитическую карьеру в телекоммуникациях, финансах и консалтинге либо вернувшиеся на правительственные или муниципальные посты. Второй (13%), по структуре капиталов близкий к первому, образуют политики, пришедшие в органы власти из институтов защиты правопорядка (военных или правоохранительных), однако продолжившие свою карьеру в реальном бизнес-секторе; в этом кластере крайне мало представителей академических элит и тех, кто не перешел после окончания политической карьеры в бизнес. Третий кластер (29,4%) составляют в основном представители сейма, пришедшие как из здравоохранения, так и из сферы коммуникаций и оставшиеся в политике либо ушедшие впоследствии в общественные ассоциации и советы. Практически никто из них не конвертировал свой политический капитал в экономический. Наконец, четвертый кластер (28,8%) образовали представители академических структур и общественных ассоциаций, пришедшие на правительственные посты и впоследствии перешедшие в органы Евросоюза либо вернувшиеся в академическое поле. Никто из данного кластера не перешел работать в бизнес.
Эстония: экономико-административная траектория
Опыт работы по социально-гуманитарному профилю до прихода во власть в Эстонии имели 32% политиков – это несколько больше, чем в Литве, но существенно меньше, чем в Латвии. Основным сектором для них стала сфера образования и науки (14,9%), значительное число политиков пришли во власть из сферы культуры (7%). Бизнес-опытом до прихода во власть обладали 28,1% эстонских политиков, причем 10,5% из них – выходцы из сферы коммуникаций, 9,3% – из сферы финансов и консалтинга, 9,2% – из реального сектора.
Среди эстонских политиков уровень сохранения политического и административного капитала оказался ниже, чем в случае с Латвией: среди членов правительства во власть вернулись 56,6% (37,3% – в Рийгикогу), среди депутатов Рийгикогу – 40,9% (в основном вновь в парламент или на муниципальный уро- вень), а вот среди членов президентского аппарата процент возврата оказался всего 12,5%.
Переменные политического пространства в ходе множественного анализа соответствий сгруппировались по двум осям: горизонтальная отражает оппозицию между экономическим капиталом и символическим, вертикальная – между политическим и административным.
Структура кластеров эстонского политического пространства ближе к литовской с преобладанием одной модели накопления и конвертации капиталов.
Первый кластер (9,7%) образуют политики, группирующиеся в «административно-символическом» квадрате: большинство из них пришли во власть из сферы культуры и либо вернулись туда, либо в конечном итоге закрепились в парламентской власти. Второй (5,7%) целиком состоит из политиков, закрепившихся в правительственных структурах; здесь нет ни тех, кто в конечном итоге вернулся в парламентские элиты, ни тех, кто выпал из политической жизни. Третий, самый многочисленный кластер (70,6%) в основном составляют политики, не имевшие опыта работы в общественно-гуманитарной сфере ни до прихода во власть, ни после ухода из политики. Здесь также высока доля тех, кто, покинув властные структуры, уже в них не вернулся. Большинство из них, однако, имели опыт работы в бизнесе. Наконец, четвертый кластер (14%) теснее других связан с президентским аппаратом, располагаясь по вертикальной оси политического капитала. Политики этого кластера значительно чаще работали в социальной сфере до прихода во власть, и многие из них туда и вернулись. Представителей парламентских элит в этом кластере вдвое меньше, чем в среднем по выборке.
Выводы
-
1. Как показывает множественный анализ соответствий, в постсоветский период поле власти прибалтийских государств структурировалось вокруг четырех типов капитала, которые составляли две ключевых оппозиции: политиче-ский/административный и экономический/символический. Основные практики накопления и конвертации капиталов политических акторов так или иначе тяготеют к одному из этих полюсов, образуя типичные модели.
-
2. Наибольшим объемом символического и экономического капитала, привнесенного во власть из общественно-гуманитарного поля и поля бизнеса, в исследуемый период обладали политические элиты Латвии, более половины которых опирались на эти ресурсы при вхождении в политическое пространство. В случае с эстонскими политическими элитами такими ресурсами обладала примерно треть политиков, в случае с литовскими – 20–25% политиков.
-
3. Значительная часть политических элит (как правило, больше половины) после окончания первого этапа своей политической карьеры возвращаются во властные структуры. Наименьшим процентом возврата в политическую карьеру отмечаются члены президентского аппарата (большинство из них заняли позиции в общественно-гуманитарном поле), в то время как члены парламентских элит, как правило, продолжают вращаться в поле власти либо конвертируют свой политический капитал в символический, уходя в академическую сферу или в общественные советы и ассоциации. Представители бизнеса после окончания первого этапа политической карьеры часто возвращаются в экономическое поле. Однако если они продолжают карьеру в органах власти, то значительно чаще других занимают посты в исполнительной власти на правительственном или муниципальном уровне.
-
4. Наиболее типичной моделью накопления и конвертации капиталов для Литвы является накопление символического капитала в академическом поле с
последующим занятием позиции в поле власти и дальнейшим возвратом в академическое поле либо закреплением в парламентских элитах. Типичная модель эстонских политических элит менее специфична, однако в ней существенно меньше представителей общественно-гуманитарного сектора и достаточно велика доля бизнес-элит. Наконец, в случае Латвии отмечается значительное разнообразие траекторий: первую образуют выходцы из бизнеса либо вернувшиеся в него из поля власти, либо занявшие административные позиции; вторую образовали «символические магнаты», пришедшие в парламент из общественного сектора или коммуникационного бизнеса и затем либо оставшиеся в этом поле, либо занявшие общественные посты; третью составили представители академической элиты, занявшие правительственные посты и вернувшиеся в академическое поле.
Список литературы Сравнительный анализ проницаемости каналов рекрутирования властных групп в странах Прибалтики
- Гаман-Голутвина О.В. 2000. Определение основных понятий элитологии. -Полис. Политические исследования. № 3. С. 97-103
- Хигли Дж. 2011. Элиты, внеэлитные группы и пределы политики: теоретический ракурс. -Элиты и общество в сравнительном измерении: сборник статей (под ред. О.В. Гаман-Голутвиной). М.: РОССПЭН
- Шафир М.А. 2009. Анализ соответствий: представление метода. -Социология: методология, методы, математическое моделирование. № 28. С. 29-44
- Benzécri J.-P. 1992. Correspondence analysis handbook. NY: Dekker
- Etizon D., Davis G. 2008. Revolving Doors? A Network Analysis of Corporate Officers and U.S. Government Officials. -Journal of Management Inquiry. Vol. 17. No. 3. P. 157-161
- Lebaron F. 2008. Central bankers in the contemporary global field of power: a ‘social space’ approach. -The Sociological Review. Vol. 56, Suppl. 1. P. 121-144
- Lebaron F. 2010. European Central Bank leaders in the global space of central bankers: A Geometric Data Analysis approach. -French Politics. No. 8. P. 294-320
- Lebaron F. 2012. A Universal Paradigm of Central Banker? An Inquiry Based on Biographical Data. Social Glance. -Journal of Social Sciences and Humanities. Vol. 1. No. 1. P. 40-59
- Le Roux B., Rouanet H. 2010. Multiple Correspondence Analysis. Thousand Oaks, CA: SAGE Publication, Inc
- Mundheim R. 1980. Conflict of Interest and the Former Government Employee: Rethinking the Revolving Door. -Creighton Law Review. Vol. 14. P. 707-721
- Vidal J., Draca M., Fons-Rosen C. 2010. Revolving Door Lobbyists. London, UK: London School of Economic