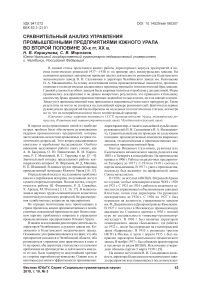Сравнительный анализ управления промышленными предприятиями Южного Урала во второй половине 30-х гг. XX в
Автор: Коршунова Надежда Владимировна, Морозков Сергей Викторович
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 т.19, 2019 года.
Бесплатный доступ
В данной статье представлен анализ работы директорского корпуса предприятий в период политических репрессий 1937-1938 гг. на примере двух южноуральских заводов. На основании архивных материалов проведен анализ деятельности руководителя Кыштымского механического завода В. И. Сальникова и директора Челябинского завода им. Колющенко И. А. Малашкевича. За основу исследования взяты производственные показатели, производственная и технологическая дисциплина и производственный и технологический брак заводов. Главной сложностью обоих заводов была кадровая политика и проблема с дисциплиной. Меры принимались декларативно и не давало конкретных результатов, что приводило к большому количеству брака, срывам производственных заданий не только в цехах, но и на заводах в целом. Зачастую в производственный хаос приходилось вмешиваться чекистам и прокуратуре. Такие результаты не могли не сказаться на дальнейшей карьере руководителей: фактически первые руководители предприятий были обречены на осуждение по политическим статьям, несмотря на то, что их недоработки носили чисто хозяйственный характер.
Кадровая политика в ссср, промышленность урала, политические репрессии, кыштымский машиностроительный завод, челябинский плужный завод
Короткий адрес: https://sciup.org/147231658
IDR: 147231658 | УДК: 947.072 | DOI: 10.14529/ssh190307
Текст научной статьи Сравнительный анализ управления промышленными предприятиями Южного Урала во второй половине 30-х гг. XX в
В период индустриализации одной из наиболее острых проблем было обеспечение руководящими кадрами промышленных предприятий, которые часто менялись вследствие проводимых в стране политических репрессий. Этот вопрос рассматривали советские и зарубежные исследователи. Особого внимания заслуживают работы таких ученых, как А. В. Бакунина, О. Ю. Винниченко, В. М. Кириллова, Р. Т. Москвиной, В. С. Терехова и др. [2—4]. Значительный интерес представляют работы южноуральских авторов Г. В. Форсмана, М. Д. Машина, Н. П. Шмаковой. В данных трудах проанализирован промышленный потенциал Южного Урала [14; 15].
Определенный вклад в исследование проблемы внесли и зарубежные историки, получившие доступ к ранее секретным архивам. На наш взгляд, следует отметить работы Ш. Фицпатрик, Р. Д. Сервайса, Х. Аренда, М. Мэтьюза [1; 13; 16; 17]. В вышеуказанных научных трудах основной акцент делается на политическую подоплеку репрессий, без рассмотрения хозяйственных вопросов на предприятиях.
Не отрицая политизации всех происходящих в стране процессов, анализ производственных и хозяйственных показателей производств дает более сложную картину проблемных вопросов в управлении промышленными предприятиями Южного Урала.
В нашем исследовании рассмотрим деятельность директоров Челябинского плужного завода им. Ко-лющенко и Кыштымского механического завода. Основанием для сравнения является тот факт, что оба предприятия находятся в Челябинской области, оба руководителя управляли ими практически в одно и то же время, оба директора столкнулись со схожими проблемами на производстве, и деятельность каждого из них была подвергнута жесточайшей критике со стороны партийного руководства. Однако есть и некоторые различия в эффективности принимаемых директорами мер, а также в дальнейшей судьбе самих руководителей: В. И. Сальникова и И. А. Малашкеви-ча. Сравнительный анализ проведем по следующим позициям: производственные показатели вверенных заводов, технологическая и производственная дисциплина и производственный брак.
Виктор Иванович Сальников, руководитель Кыштымского механического завода, родился в мае 1892 г. в Таганроге в семье рабочих. На производство пришел в 1906 г. Работал на различных предприятиях Таганрога до 1917 г. С 1914 по 1919 г. состоял в партии меньшевиков. В 1917 г. ушел с производства, поскольку был выдвинут по профсоюзной линии Союза металлистов.
В 1920 г. он вступил в ВКП(б). В Красной Армии не служил, но был командиром взвода ЧОН с 1920 по 1921 г. С 1921 по 1924 г. работал в должности заместителя управляющего объединенными заводами Югостали, потом стал директором. Он руководил предприятием до 1926 г. С 1926 по 1927 г. был переведен на должность управляющего заводом им. Ф. Дзержинского в Днепропетровске-Каменском. В 1927 г. поступил в Московскую промышленную академию им. Сталина и окончил в 1930 г. полный курс по специальности «инженер-организатор-металлург». В 1930 г. был назначен директором ленинградского завода «Большевик», где работал до 1932 г., после был переведен на сталинградский завод «Баррикады». В 1933 г. руководил трестом НКТП в Москве, в затем 1 апреля 1935 г. был направлен директором Кыштымского механического завода. В ноябре 1937 г. был объявлен врагом народа и исключен из рядов ВКП(б). Исключение утверждено обкомом партии 5 марта 1938 г. [9].
На момент вступления В. И. Сальникова в должность директора Кыштымского механического завода предприятие восстанавливалось после вынужден- ного постреволюционного простоя. Прежнее руководство, сделав многое для развития предприятия и оснащения его самым современным на тот момент оборудованием, не смогло решить ряда проблем. Особенно остро стоял вопрос производственной и технологической дисциплины, что сказывалось на количестве брака и не давало возможности использовать весь потенциал завода для выполнения производственного задания. В первое время при смене руководства на предприятии вообще заметно снизились производственные показатели. Виктору Ивановичу удалось изменить ситуацию, и к июню 1935 г. завод вновь стал рентабельным. В. И. Сальников объяснял перемены применением социалистических форм труда, ростом активности рабочих, ИТР и служащих. Итог по отчетам оказался внушителен: впервые за время существования механического завода программа 1935 г. была выполнена к 10 декабря. На 1 января 1936 г. предприятие вышло со следующими показателями: по выпуску товарной продукции в неизменных ценах 1926—1927 г. — план 1935 г. выполнен на 107 %. По производительности — 107 %. В рапорте второй партийной конференции коллективом литейно-механического завода приводятся следующие производственные показатели: производственная программа на 1936 г. перевыполнена на 45 %; себестоимость снизилась к плану 1936 г. на 14 %; экономия от себестоимости 1520 тыс. руб.; производительность увеличилась к плану 1936 г. на 37 % и к плану 1935 г. на 57 % [7. л. 214—215].
Несмотря на высокие показатели в отчетах, в уголовном деле В. И. Сальникова фигурирует другая статистика, согласно которой официальные и фактические цифры значительно расходятся. За 1935 г. отражено по отчету: план — 4670,0 тыс. руб., фактическое выполнение — 5247,0 тыс. руб. или 112,5 %. План составлен аналогично учету 1934 г., тогда как в отчете выделена серийная продукция на сумму 991,2 тыс. руб., ранее исчисляемая в ценах 1926—1927 гг. (431,2 тыс. руб.). Если учитывать данный факт, то в реальности перевыполнение плана за 1935 г. составило не 5247, а 4637,7 или 100,3 %, что тоже неплохо. Тем более, что отчет за 1937 г. проводился по ценам 1926—1927 гг., что также отразилось на правильности отчета. На основании вышеуказанного понятно, почему цифры отчетов были поставлены под сомнение органами государственной власти.
Одной из наболевших проблем, стоявших перед руководителем Кыштымского завода, было отсутствие трудовой дисциплины. В дело неоднократно приходилось вмешиваться органам НКВД. В докладных записках, адресованных руководству завода, говорится, в частности, о загромождении железнодорожных путей и систематических поломках продувных паровозных краников. Указывается, что рабочие, ответственные за состояние путей, не принимают никаких мер по устранению проблемы [6, л. 219]. Факты подтверждают, что В. И. Сальников вел решительную борьбу с нарушителями трудовой дисциплины. Так, за недисциплинированность и повышенное самомнение из партии был исключен инженер Дайбов.
Низкий уровень дисциплины обнаруживался на всех уровнях работы завода. В определенной мере на ситуацию влияло пьянство. Особенно это касалось работников транспортного цеха: выехав за грузами для предприятия, возчики с грузчиками напивались так, что иногда не могли добраться обратно. Из-за подобных грубейших нарушений основные цеха нередко простаивали по несколько смен. Несмотря на активную деятельность в решении данного вопроса, наладить производственную дисциплину В. И. Сальникову не удалось.
Очевидно, что при низкой дисциплине было много брака. Так, начальник Кыштымского Р/О НКВД Сенько доложил директору Сальникову, что, по имеющимся данным, рабочий перфораторного цеха Сериков на почве халатности пустил в брак 14 штук перфораторных задних головок. Сообщалось, что мастер Шуварин, зная о ситуации, не принял никаких мер, в то время как отсутствие перфораторных головок приводило к задержкам в выпуске перфораторов [6, л. 221]. В те годы весь выпуск перфораторов составлял единицы штук в месяц, заменить или сделать новые перфораторные головки не было никакой возможности. Каждый перфоратор был расписан заказчику на годы вперед. В следующем письме Сенько сообщает, что 23 июня 1935 г. в смене мастера Миляева рабочими цеха были изготовлены шайбы в количестве 260 штук, все они оказались бракованными [6, л. 219]. Убытки от брака за 11 месяцев 1936 г. составили 422 тыс. руб. [5]. И это были не единичные случаи. Подобные нарушения были систематическими. Например, в акте Карабашского медеплавильного завода от 26 февраля 1938 г. сообщается, что Кыштымский мехзавод выполнил обязательства на 40—60 %. Запчасти поставлялись нерегулярно, что приводило к проблемам и задержкам в работе Карабашского медьзавода. В указанном документе говорится, что поставляемые Кыштымским заводом бракованные изделия можно расценивать как попытку вредительства, в том числе и со стороны директора В. И. Сальникова.
Нельзя сказать, что В. И. Сальников не принимал мер по улучшению ситуации, но безуспешно. В ноябре 1937 г. на общем партийном собрании коллектива Литейно-механического завода всплывает информация о том, что В. И. Сальников был гласным членом городской Думы Таганрога. Ее выложил секретарь парторганизации завода Турнаев, сам оказавшийся под ударом критики со стороны парторганизации. Кроме того, в документах указывается, что Сальников «виноват в засорении завода чуждыми элементами». Директор ответил на данное обвинение, что никогда не работал в таком коллективе, состав которого нуждался бы в немедленном обновлении на 75 %. По его словам, он проводил чистку аппарата постепенно, поскольку уволить всех специалистов, не имея возможности заменить их другими, он, как руководитель завода, не имел права [8, л. 157—159].
В. И. Сальникова обвиняли не только в далеких от идеала производственных показателях или низком качестве хозяйственной работы. К сожалению, реальность эпохи была такова, что он стал объектом политической травли. Неплохой хозяйственник был
Н. В. Коршунова, С. В. Морозков отстранен от работы, а 25 декабря 1937 г. арестован «за членство в подпольной меньшевистской организации». 21 июля 1938 г. бывший директор Кыштымского завода был расстрелян по политической статье, хотя очевидно, что претензии к нему носили производственный характер.
Не менее интересна деятельность Ивана Арсеньевича Малашкевича, в июне 1934 г. занявшего пост директора Челябинского завода им. Колющенко, одного из значимых предприятий не только Урала, но и всей страны. К сожалению, о И. А. Малашке-виче сохранилось мало информации. Известен факт, что он вступил в ВКП(б) в 1917 г. [10]. Директором Челябинского завода он стал, уже имея некоторый управленческий опыт. Приняв руководство предприятием, И. А. Малашкевич столкнулся с довольно непростой ситуацией. На заводе происходила постоянная текучка кадров. Основной причиной было отсутствие жилья, предназначенного для рабочих завода. Это вынуждало их уходить на другие предприятия, количество которых в Челябинске увеличивалось с каждым годом.
Не все было просто с выполнение производственной программы: на общем закрытом партийном собрании завода от 5 мая 1936 г. говорится, что апрельская программа предприятия не была выполнена. Выборочно приведем статистику работы предприятия за 4 месяца 1936 г.: тракторные плуги — 84 %; конные плуги — 98,2 %; культиваторы — 25,9 %. В целом по заводу — 62 %. Причиной низких показателей было отсутствие четкого технического руководства заводом и цехами. Работа выполнялась в конце месяца методом штурмовщины [11].
В документах от 31 января 1937 г. приводятся слова И. А. Малашкевича о том, что завод был обеспечен металлом на февраль. Это явилось большим достижением руководства предприятия. Но уже 10 июля 1937 г. на собрании коммунистов постановили, что за невыполнение плана за первое полугодие несут ответственность директор завода Малашкевич и главный инженер Полянцев. Им вменяется в вину, что они не боролись за выполнение производственной программы.
На совещании в обкоме партии у первого секретаря Рындина директор завода был предупрежден, что партия не простит колющенцам низкое качество производственной работы. 16 октября 1937 г. на закрытом партийном собрании завода ввиду невыполнения производственной программы И. А. Малашкевичу было поручено обеспечить выполнение плана за вторую половину месяца [12, л, 78]. Из вышеперечисленного видно, что производственная программа завода регулярно не выполнялась.
Хромала и дисциплина. В 1936 г. коммунисты завода так характеризовали ее уровень: работа начиналась лишь с конца месяца, в начале месяца работа не выполнялась, рабочие без дела ходили по цеху, так как им не давали лемехи. Процветало пьянство. Были высказаны жалобы на наличие спиртных напитков в столовой. Также коммунисты отмечали недисциплинированность смены мастера Жабина, позволявшей себе употреблять вино и спать на рабочем месте. Было отмечено, что директор завода грубо оскорбил парторга Постнова, употребив нецензурную лексику [11, л, 115]. В 1937 г. отмечалась массовая поломка станков (долбежного, сверлильного, токарного) в ремонтно-инструментальном цехе, деградация ремонтно-механический цеха, который в документах эпохи называется «испорченным вредительским зданием», «сборищем всех и всяких».
Нельзя сказать, что руководство завода не пыталось исправить положение. Так, главный инженер Гейдрих на партсобрании завода 10 июля 1937 г. следующим образом охарактеризовал трудовую дисциплину предприятия: «Так работать, как мы сейчас работаем, — за 0,5 месяца выполнили программу на 15—20 % — нельзя. На выполнении программы сильно сказалось состояние дисциплины, особенно в руководстве. Мастера делают что хотят, не считаясь с планом, а дают комплектные детали». Также отсутствовала борьба со станколомами, было отмечено множество ситуаций, когда никто из рабочих или мастеров не нес ответственности за поломку станка [12, л, 54]. Трудовая дисциплина отсутствовала и среди рабочих механо-сборочного цеха. Отмечались случаи, когда мастер инструментальной Орлов в пьяном виде заправлял режущие инструменты [12, л, 62].
Понятно, что подобная трудовая дисциплина способствовала увеличению брака. Если в 1936 г. завод выдал 3,9 % брака, то за 7 месяцев 1937 г. количество бракованных деталей составило 4,24 %. За данную ситуацию никто не нес ответственности, за исключением того, что с рабочих было удержано 8 тыс. руб. На мастеров материальные взыскания не возлагались. Как следствие, с их стороны не было заинтересованности в снижении брака. В 1937 г. на завод поступило значительное количество рекламаций, в основном они были связаны с тем, что рабочие железной дороги путали адреса получателей, а рабочие завода путали детали машин при упаковке [12, л, 61].
К фактам, свидетельствующим о состоянии дисциплины и качестве выпускаемой продукции, нам следует отнести и отдельные случаи вредительства. Так, на основании решения общезаводского партсобрания от 5 февраля 1937 г. директору завода И. А. Малашкевичу поручалось проверить и принять меры по следующим нарушениям. По вине механика Круковского оборудование в механосборочном цехе содержалось недолжным образом. Не была введена в эксплуатацию заводская баня на основании решения комиссии (следствие «вредительских действий» во время строительства). В течение двух лет после их приобретения так и не были пущены в работу два импортных станка [12, л, 8].
С болью за производство коммунисты завода приводили на собраниях следующие данные: например, в 1936 г. начальник цеха Третьяков, по словам выступавших, стоял на грани саботажа: он ничего не сделал по письму кузнецов, рабочее место содержал неорганизованным, кузнецы ходили по цеху без работы; со стороны директора никаких мер не было принято [11, л, 30—31].
Безответственность была отмечена и в нефтехранилище завода. Его строительство не было закончено, охрана не организована, противопожарные мероприятия не проводились. Как следствие, дважды
8—10 т нефти было выпущено из баков на землю. Директору было предписано в десятидневный срок принять меры [12, л, 62].
С этого момента начинается критика И. А. Ма-лашкевича. Его называли «разложившимся коммунистом», руководителем, который не умеет работать с молодыми специалистами [12, л, 86]. Основные претензии, предъявляемые к директору, были следующими: растрата государственных средств и «бытовое разложение». В резолюции общезаводского партийного собрания от 15 ноября 1937 г. говорится, что на основании вышеизложенных документов И. А. Малашкевича следует исключить из партии ВКП(б), также был поставлен вопрос о необходимости судебного разбирательства в связи с растратой бюджетных средств [12, л, 91]. Сложно проследить дальнейшую судьбу И. А. Малашкевича. Известно, что в 1939 г. он выехал из Челябинской области.
Формирование индустриальной базы Южного Урала, очевидно, наталкивалось на ряд сложных проблем, решить которые даже грамотным управленцам, таким как В. И. Сальников и И. А. Малаш-кевич, было крайне сложно. Причем в основе лежала именно кадровая проблема. Конечно, она частично решалась: и в Кыштыме, и в Челябинске: работали школы ФЗУ при заводах, что давало постоянный приток кадров, но не отменяло текучки.
Огромной проблемой был производственный брак, который приводил к срыву выполнения плановых показателей предприятий. Понятно, что вина за это возлагалась на руководителей. Очевидно, что причиной большого количества брака было не только пьянство и разгильдяйство, но и низкая квалификация работников, мастеров. В то же время властям было проще признать директора врагом народа, чем уяснить, что проблема в организации труда. Индустриализация была проведена, однако «цена вопроса» оказалась очень высока.
Список литературы Сравнительный анализ управления промышленными предприятиями Южного Урала во второй половине 30-х гг. XX в
- Арендт, Х. Истоки тоталитаризма / Х. Арендт. - М.: Центрком, 1996. - 672 с.
- Бакунин А. В. История советского тоталитаризма: в 2 кн. / А. В. Бакунин. - Кн. 2. Апогей. - Екатеринбург, 1997. - 224 с.
- История репрессий на Урале в годы советской власти: тезисы докл. науч. конф. - Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1994. - 140 с.
- История репрессий на Урале: идеология, политика, практика (1917-1980-е годы): сб. ст. науч. конф. 10-12 нояб. 1997 г. / [отв. ред. В. М. Кириллов]. - Нижний Тагил, 1997. - 207 с.
- ОГАЧО. Ф. 211. Оп. 1. Д. 612.
- ОГАЧО. Ф. 211. Оп. 1. Д. 618.
- ОГАЧО. Ф. 211. Оп. 1. Д. 702.
- ОГАЧО. Ф. 211. Оп. 1. Д. 722.
- ОГАЧО. Ф. 288. Оп. 70. Д. 1899.
- ОГАЧО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 67.
- ОГАЧО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 77.
- ОГАЧО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 80.
- Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы / Ш. Фицпатрик. - 2-е изд. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого президента России Б. Н. Ельцина, 2008. - 336 с.
- Форстман, Г. В. Уральские станкостроители: историко-биограф. очерк / Г. В. Форстман, М. Д. Машин. - Челябинск, 1985. - 175 с.
- Шмакова, Н. П. Машиностроительная промышленность Южного Урала в 30-е гг. XX в. / Н. П. Шмакова // Промышленность Урала в XIX-XX вв.: сб. науч. тр.; под ред. В. П. Чернобровина. - М., 2002. - C. 208-225.
- Fridrich, C. J. Totalitarian Dictatorship and Autocracy / C. J. Fridrich, Z. K. Brzezinski. - Cambridge: Harvard University Press, 1965. - 439 p.
- John, R. Service The Penguin History of Modern / R. John. - Russia Penguin Book Ltd, 2009. - 736 p.