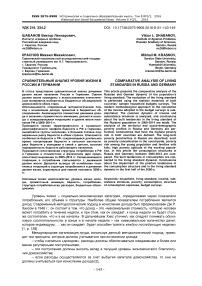Сравнительный анализ уровня жизни в России и Германии
Автор: Шабанов Виктор Леннарович, Краснов Михаил Михайлович
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Социологические и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 3-1 т.8, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен сравнительный анализ динамики уровня жизни населения России и Германии. Оценки уровня жизни проведены с использованием статистических материалов выборочных бюджетных обследований домохозяйств обеих стран. Обосновывается современный методологический подход к исчислению дохода, принятый в бюджетных обследованиях. Анализируется совместная динамика дохода и величины прожиточного минимума, делаются выводы о складывающихся тенденциях в уровне жизни населения РФ в 2000-2014 гг. Проводится анализ территориального и социальнодемографического профиля бедности в РФ и Германии, выявляются группы населения, в большей степени подверженные риску бедности в обеих странах. Отмечаются особенности бедности в РФ, сохраняющиеся длительное время: концентрация бедности в сельской местности, риск бедности у молодежи и семей с детьми, высокая подверженность бедности работающего населения. Проводится сопоставление структуры потребления в РФ и Германии в стоимостном и физическом (для продовольствия) выражении за 2005-2012 гг. Складывающиеся тенденции в потреблении связываются с динамикой уровня жизни. Делаются выводы об ослаблении позитивных тенденций в структуре потребления и в динамике уровня жизни, характерных для первой половины 2000-х гг.
Домохозяйство, уровень жизни, доходы, прожиточный минимум, бедность, потребление, структура потребительских расходов, бюджетные обследования
Короткий адрес: https://sciup.org/14951210
IDR: 14951210 | УДК: 316. | DOI: 10.17748/2075-9908-2016-8-3/1-143-149
Текст научной статьи Сравнительный анализ уровня жизни в России и Германии
Уровень жизни – социально-экономическая категория, определяемая через показатели потребления, его объема и структуры. Наиболее общим показателем потребления является доход. Современный методологический подход в исчислении дохода был сформулирован Дж.Р. Хиксом в 1946 г.; он состоит в том, что доход – это «максимальная стоимость, которую человек может потребить в течение недели, и при этом, как он ожидает, к концу недели он будет столь же состоятелен, что и в ее начале». В дальнейшем Хикс уточнил, как следует понимать одинаковую состоятельность в конце и в начале недели – как «максимальное количество денег, которое индивидуум, … как он ожидает, будет способен тратить каждую последующую неделю» [1, p. 128].
Международная организация труда, используя данный методологический подход, приводит три принципа, которые должны учитываться при исчислении дохода:
-
– чтобы считаться «доходом», расходы должны обеспечиваться ожидаемыми и более или менее регулярными поступлениями;
-
– эти поступления должны вносить вклад в текущий уровень экономического благополучия домохозяйства;
-
– если расходы осуществляются за счет выбытия капитала домохозяйства, то они не должны учитываться при исчислении дохода [2].
Данные принципы лежат в основе современных бюджетных обследований домашних хозяйств, являющихся основным источником информации по доходам, которые проводятся статистическими службами многих стран мира. В рамках бюджетных обследований Росстата с 1997 г. денежный доход трактуется как объем средств, которыми располагали домохозяйства для обеспечения своих расходов и создания сбережений без привлечения ранее накопленных или заемных средств в период обследования [3 (2012), с. 11].
Для получения корректного представления о динамике уровня жизни необходимо соотносить денежный доход с некоторым пороговым уровнем – социальным нормативом, в качестве которого обычно берется величина прожиточного минимума (ПМ). Росстат вводит величину ПМ как денежную оценку «потребительской корзины» – потребительского набора, содержащего минимально необходимое для физического и социального выживания количество продуктов питания, товаров и услуг, а также обязательные платежи и сборы [4 (2015), с. 179-180].
Динамика денежного дохода, соотнесенного с величиной ПМ, была восходящей с 2000 по 2012 гг., за исключением небольших спадов в 2005, 2008, 2011 гг. После 2012 г. наметился нисходящий тренд. В целом за 1999 ‒ 2012 гг. данный показатель увеличился с 183 до 357%, после чего к 2014 г. он снизился до 345% [4 (2003), с. 169; 4 (2010), с. 171; 4 (2015), с. 139].
В российской статистике, наряду с денежным доходом, используется также ряд других видов дохода, в том числе валовой, представляющий собой сумму денежных доходов и стоимости натуральных поступлений продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг в домохозяйство. Учет в составе валового дохода оцененных в денежной форме натуральных поступлений важен для более корректного представления о благосостоянии домохозяйств, особенно сельских, для которых доля натуральных поступлений остается весомой, хотя и обнаруживает тенденцию к снижению (с 17,6% в 2004 г. до 7,5% в 2014 г. [3 (2008), с. 12, 13; 3 (2015), с. 18]). При расчетах численности малоимущего населения Росстатом именно валовой доход соотносится с величиной ПМ. Малоимущим считается человек, чей валовой доход (рассчитанный как среднедушевой по домохозяйству, в котором он проживает) не превышает одной величины ПМ [4 (2015), с. 180].
В странах ЕС численность малоимущего населения связывается не с величиной ПМ, а со средним или медианным значением дохода в стране, который рассчитывается с учетом весовых коэффициентов, определяемых внутри каждого домашнего хозяйства: вес 1 присваивается первому взрослому в домохозяйстве (старше 14 лет), 0,5 ‒ каждому последующему, 0,3 – каждому ребенку. В частности, в Германии малоимущим считается человек, чей «взвешенный доход» после вычета социальных трансфертов не превышает 60% от среднего по стране [5 (2015), p. 180].
При анализе социально-демографического и территориального профиля бедности Росстат вводит индекс «риска бедности», который определяется как «отношение уровня бедности по конкретной группе населения к уровню бедности по населению в целом» [6, с. 102]. Анализ динамики индекса за 2004 ‒ 2014 гг. по населенным пунктам разного размера (табл. 1) демонстрирует выраженную обратную зависимость между размером и «подверженностью бедности», причем это касается как сел, так и городов. Только в городах с населением свыше 250 тыс. чел., в которых в 2014 г. жило 36% населения страны, индекс риска бедности заметно меньше 1; в средних по размеру городах (от 100 до 250 тыс., 8,3% населения) он стабильно держится вблизи 1. Во всех населенных пунктах с числом жителей меньше 100 тыс. чел. индекс риска бедности превышает 1 и, чем меньше размер поселения, тем он выше. Особенно неблагоприятная тенденция складывается в группе средних по размеру сел (1-5 тыс. чел.): их подверженность бедности, и без того одна из самых высоких, с течением времени растет. Данная ситуация – крайне настораживающая, так как в этих селах проживает около половины сельского населения страны; ухудшающееся качество жизни в них ставит под угрозу всю сложившуюся систему сельского расселения [7; 8, с 326; 9].
Анализ динамики индекса за 2004 ‒ 2014 гг. среди основных возрастных групп (табл. 1) показывает, что в наибольшей степени подвержена бедности возрастная группа до 16 лет. Это означает, что семьи с детьми, особенно неполные и многодетные, имеют повышенный риск попадания в категорию бедных. Причем, в 2004 ‒ 2010 гг. ситуация для них ухудшалась, после 2010 г. наступила стабилизация на очень высоком уровне индекса риска бедности.
Для группы трудоспособного населения индекс балансирует на уровне близости к 1. Это очень неблагоприятная тенденция, так как она может свидетельствовать либо о низкой занятости населения в трудоспособном возрасте, либо о том, что наличие работы не дает гарантии от бедности. Феномен широкого представительства работающих в общей численности бедного населения («новых бедных») был замечен исследователями в 1990-е гг.; он остается актуаль- ным и в наше время [10, 11, 12], хотя налицо позитивный тренд: за период 2004‒2014 гг. риск бедности для занятого населения снизился с 0,91 до 0,88.
Таблица 1. Индекс риска бедности в населенных пунктах разного размера и в некоторых группах населения в 2004, 2010 и 2014 гг., %
Table 1. The Index of poverty risk in populated areas of different size and in some population groups in 2004, 2010 and 2014, %
|
2004 |
2010 |
2014 |
|
|
Города и поселки гор. типа |
0,85 |
0,816 |
0,823 |
|
в т. ч. с населением |
|||
|
св. 1 млн чел. |
0,67 |
0,40 |
0,43 |
|
от 250 тыс. до 1 млн |
0,71 |
0,65 |
0,55 |
|
от 100 тыс. до 250 тыс. |
0,99 |
0,87 |
0,98 |
|
от 50 тыс. до 100 тыс. |
1,09 |
1,11 |
1,15 |
|
менее 50 тыс. |
1,19 |
1,16 |
1,21 |
|
Села |
1,41 |
1,506 |
1,508 |
|
в т. ч. с населением |
|||
|
св. 5 тыс. чел. |
1,38 |
1,39 |
1,43 |
|
от 1 до 5 тыс. чел. |
1,37 |
1,48 |
1,53 |
|
от 200 до 1000 чел. |
1,45 |
1,64 |
1,55 |
|
менее 200 чел. |
1,86 |
2,50 |
2,50 |
|
по возрастным группам |
|||
|
в том числе |
|||
|
моложе трудоспособного |
1,31 |
1,47 |
1,46 |
|
трудоспособное |
0,99 |
0,99 |
0,98 |
|
старше трудоспособного |
0,72 |
0,56 |
0,57 |
|
по отношению к занятости |
|||
|
занятые в экономике |
0,91 |
0,88 |
0,88 |
|
безработные |
1,62 |
2,44 |
2,00 |
Рассчитано по: [4 (2005), с. 209; 4 (2011), с. 183; 4 (2015), с. 164-165].
Несмотря на разные подходы к оценкам численности малоимущих в России и Германии, сравнение индексов риска бедности для обеих стран корректно, так как сам индекс рассчитывается по одной формуле и для аналогичных (сопоставимых по статусу) групп населения.
Анализ показывает, что основные различия между двумя странами связаны с положением молодежи, занятого населения и безработных и жителей крупных городов. В РФ риск попадания в категорию бедных для лиц моложе 16 лет составляет 1,46 против 0,91 для лиц моложе 18 лет в Германии. Сильно уязвимое положение детей в РФ «тянет» за собой не только неполные семьи (для которых риск бедности в Германии, как и, вероятно, в России, очень велик, составляя 2,2), но и полные семьи с одним или двумя детьми, риск бедности которых в Германии – один из самых низких (0,53). Несмотря на то, что риск бедности у занятого населения в России ниже 1, его положение в Германии значительно лучше (риск бедности – 0,53). Одновременно с этим положение безработных в Германии гораздо напряженнее, чем в России (риск бедности – 4,3).
Еще одно различие, которое можно проследить в отсутствии данных по населенным пунктам разного размера и статуса в Германии, состоит в том, что в крупнейших городах Германии – Берлине и Гамбурге – и в наиболее урбанизированной земле – Северном Рейне-Вестфалии – риск бедности выше, чем в большинстве провинций: соответственно 1,38, 1,09 и 1,1. По-видимому, в Германии нет четкой зависимости уровня жизни населения от характера местности (город/село), что подтверждает ее статус одной из наиболее развитых стран мира.
Таким образом, несмотря на более чем трехкратный формальный рост реальных доходов в РФ за 2000 ‒ 2014 гг., позитивные изменения в социально-демографическом профиле бедности были не столь заметны, особенно при сравнении с аналогичным профилем бедности в Германии. Уязвимыми в России остаются те группы населения, чье положение в стране с высоким уровнем жизни должно быть прочным и устойчивым – молодежь, семьи с детьми, работающее население, жители малых городов.
Анализ потребления, его структуры в стоимостном и физическом выражении, является составной частью комплексного исследования уровня жизни. С показателем дохода, исчисляемого через расходы, методологически и статистически тесно связан показатель потребительских расходов [3 (2012), с. 11]. По их структуре, по соотношению в ней удельных весов тех или иных благ можно судить об уровне жизни. Сопоставим структуры потребительских расходов населения РФ и Германии за период 2005‒2011 гг. (табл. 2, 3).
Таблица 2. Структура потребительских расходов в Германии, %
Table 2. The Structure of consumption expenses in Germany, %
|
2005 |
2007 |
2009 |
2012 |
|
|
Потребительские расходы (Private Konsumausgaben), в среднем на члена домохозяйства |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
в т.ч. |
||||
|
Пищевые продукты, алкогольные напитки, табачные изделия |
13,4 |
14,4 |
14,0 |
13,9 |
|
Одежда и обувь |
4,8 |
4,5 |
4,5 |
4,6 |
|
Бытовые приборы, интерьер |
6,3 |
5,8 |
5,4 |
5,5 |
|
Проживание, электроэнергия, содержание жилья |
33,2 |
33,5 |
33,6 |
34,5 |
|
Транспортные расходы |
13,5 |
14,1 |
15,1 |
14,2 |
|
Досуг, развлечения и культура; гостиницы и рестораны |
16,9 |
16,4 |
16,0 |
16,1 |
|
Прочее |
11,9 |
11,3 |
11,4 |
11,2 |
Источник: [5 (2013), p. 164; 5 (2015), p. 170].
Таблица 3. Структура потребительских расходов в РФ, %
Table 2. The Structure of consumption expenses in Russia, %
|
2005 |
2007 |
2009 |
2012 |
2014 |
|
|
Потребительские расходы, в среднем на члена домохозяйства |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
в т.ч. |
|||||
|
Продукты питания, алкогольные напитки, табачные изделия |
35,9 |
30,8 |
32,9 |
30,6 |
31,3 |
|
Одежда и обувь |
10,7 |
10,4 |
10,4 |
10,1 |
8,9 |
|
Бытовая техника, предметы домашнего обихода, уход за домом |
7,2 |
7,3 |
7,0 |
6,3 |
6,3 |
|
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ |
11,3 |
11,6 |
10,8 |
10,9 |
10,3 |
|
Эксплуатация транспортных средств, транспортные услуги |
6,3 |
6,6 |
7,5 |
7,8 |
8,3 |
|
Отдых и культурные мероприятия; гостиницы, кафе и рестораны |
10,0 |
9,4 |
10,7 |
10,3 |
10,7 |
|
Прочее |
18,6 |
23,9 |
20,7 |
24,0 |
24,2 |
Источник: [4 (2012), с. 199; 4 (2015), с. 170].
Прежде всего отметим относительно более высокую стабильность стоимостной структуры потребления в Германии, сложившуюся во второй половине 2000-х гг. В России стоимостная структура потребления с течением времени продолжает заметно меняться.
В структуре потребительских расходов населения обеих стран доминируют разные виды благ. Наиболее характерными для оценок уровня жизни благами являются те, что связаны с продовольствием и жильем. Считается, что более низкий удельный вес продовольственных расходов отражает более высокий уровень жизни, а более низкий удельный вес расходов на жилище связан с менее развитой экономикой.
В Германии доля расходов на приобретение продуктов питания, алкоголя и табачных изделий держится на уровне 13-14%. В РФ удельный вес данного вида расходов был в 2,1-2,7 раз выше. В то же время на проживание и содержание жилья немцы тратят более трети своего потребительского бюджета – в 2,9-3,1 раза больше, чем в России. Обе статьи расходов в Германии и России как бы поменялись местами по своей значимости, что ясно говорит не только о потребительских приоритетах, но и о различиях в экономическом развитии и в уровне жизни.
Сопоставление удельных весов остальных видов расходов отражает разницу в уровне жизни в обеих странах: немцам гораздо легче дается приобретение одежды, обуви и товаров, связанных с ведением быта (соответствующие удельные веса в 1,6-1,7 раз ниже, чем в РФ).
Одновременно с этим немцы больше тратят на транспорт (в 1,8-2,1 раза) и на отдых (в 1,5-1,7 раза).
Итак, анализ динамики структуры потребительских расходов в России и Германии в 2005 ‒ 2012 гг. показывает существенные различия в уровне жизни в обеих странах.
Наряду со стоимостными показателями (доходов, потребительских расходов) для анализа динамики уровня жизни могут быть использованы также и показатели физических объемов потребления отдельных видов продовольствия, не требующие дополнительных перерасчетов в стоимостную форму с неизбежной при этом погрешностью. Динамика потребления тех или иных видов продовольствия отражает не только изменение предпочтений и вкусов людей, но и изменение их возможностей, так как демонстрирует тенденции взаимного замещения продуктов, относящихся к разным категориям доступности и качества.
Прежде всего отметим, что в РФ, в отличие от Германии, в 2000-е гг. наблюдалась выраженная поступательная динамика физических объемов потребления большинства продуктов питания (за исключением хлеба и в особенности картофеля). В потреблении отдельных видов продовольствия в РФ наблюдались свои закономерности. В частности, имела место четкая обратная зависимость между потреблением картофеля и мясопродуктов (коэффициент корреляции – минус 0,97): для периодов роста уровня жизни характерно увеличение потребления мяса и снижение потребления картофеля. В Германии такой зависимости не наблюдалось ни визуально, ни статистически (коэффициент корреляции 0,10): потребление обоих продуктов питания в целом стабилизировалось, и на его колебания влияют причины, не связанные с уровнем жизни (изменение конъюнктуры, вкусов, предпочтений и др., рис. 1).
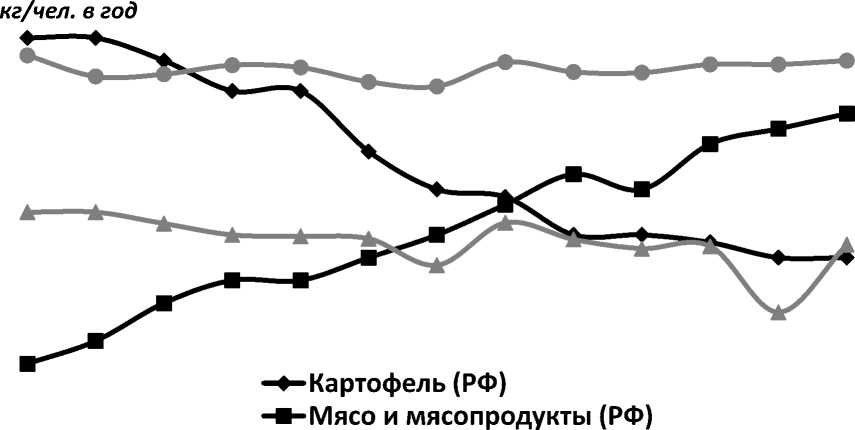
Рис. 1. Динамика потребления мясопродуктов и картофеля в домохозяйствах РФ и Германии в 2000 ‒ 2012 гг., кг/чел. в год
Fig. 1. Dynamic of meat products and potato consumption in Russian and German households in 2000 ‒ 2012., kg/person per year
Если в 2000 г. среднедушевое потребление картофеля в РФ и в Германии различалось в 1,5 раза («в пользу» РФ), то к 2012 г. оно практически совпало. Почти то же можно сказать о потреблении мясопродуктов (с поправкой на направление динамики) – от разницы в 1,7 раза до весьма небольшой разницы в 8% (остающейся «в пользу» Германии).
Что касается уровня потребления других продуктов питания, то в РФ он ниже, чем в Германии, по свежим фруктам, дорогостоящим видам молокопродуктов (сыру, маслу, йогурту), сахару; близок по овощам и выше по рыбе [13, с. 8-9; 5 (2011), p.560; 5 (2012), p.176; 5 (2013), p.170].
Таким образом, в РФ имеет место положительная динамика физической структуры потребления продовольствия в направлении, характерном для наиболее развитых стран мира. Одновременно с этим сравнительный анализ структуры потребительских расходов в России и
Германии за 2005 ‒ 2012 гг. показывает ослабление позитивной тенденции, которая была более заметна в первой половине 2000-х гг.
К настоящему времени структура потребительских расходов в РФ, так же как и уровень реальных доходов населения и социально-демографический профиль бедности, стабилизировалась на уровне, характерном для среднеразвитой экономики и невысокого уровня жизни.
Список литературы Сравнительный анализ уровня жизни в России и Германии
- Hicks J.R. Value and Capital: An inquiry into some fundamental principles of economic theory. -Oxford: Clarendon Press, 1946.
- Доклад МОТ, 2003 -URL: http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/news/2004/ilostatrus.pdf (дата обращения: 28.11.2013).
- Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств): Стат. сб./Росстат. -М., 2008, 2012, 2015.
- Российский статистический ежегодник: Стат. сб./Росстат. -М., 2003, 2010, 2015.
- Deutschland und Internationales. Statistisches Jahrbuch./Statistisches Bundesamt. 2011-2015.
- Социально-экономические индикаторы бедности в 2007-2010 гг./Росстат. -М., 2011.
- Нефедова Т.Г. Кризис и возможности устойчивого сельского развития в России//Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельской территории: Зарубежный опыт и проблемы России. -М.: Тов-во науч. изданий КМК, 2005. -С. 296-322.
- Бондаренко Л.В. Российское село в эпоху перемен: занятость, доходы, инфраструктура. -М.: ВНИИЭСХ, 2003. -509 с.
- Великий П.П. Мигранты из стран Юго-Восточных регионов в российском селе//Историческая и социальнообразовательная мысль. -2016. -Том 8. -№ 2. Ч. 1. -С. 76-86 DOI: 10.17748/2075-9908-2016-8-2/1-76-86
- Римашевская Н.М. Тенденции бедности в России//Бедность в России: государственная политика и реакция населения. -Вашингтон: Всемирный банк, 1998. -С. 141-157.
- Родионова Г.А. Сельская бедность в России//Мир России: социология, этнология. -2000. -№ 3. -С. 128-136.
- Овчарова Л.Н. Предложения для стратегии содействия сокращению бедности в современной России//Уровень жизни населения России. -2012. -№ 10-11. -С. 78-89.
- Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2012 году (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств): Стат. сб./Росстат. -М., 2013.