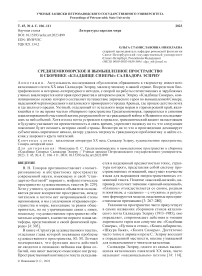Средиземноморское и вымышленное пространство в сборнике "Кладбище Синеры" Салвадора Эсприу
Автор: Николаева Ольга Станиславовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературы народов мира
Статья в выпуске: 4 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Актуальность исследования обусловлена обращением к творчеству известного каталонского поэта XX века Салвадора Эсприу, малоизученному в нашей стране. Посредством биографического и историко-литературного методов, с опорой на работы отечественных и зарубежных ученых анализируется категория пространства в авторском цикле Эсприу «Кладбище Синеры», композиционную основу которого составляет путешествие лирического героя по вымышленной Синере, наделенной чертами реального каталонского приморского городка Ареньса, где прошло детство поэта и где жили его предки. Уютный, отделенный от остального мира морем и горами родной край, являющийся в то же время частью обширного пространства Средиземноморья, превратился в синоним идеализированной счастливой жизни, разрушенной из-за гражданской войны в Испании и последовавших за ней событий. Хотя взгляд поэта устремлен в прошлое, грамматический акцент на настоящем и будущем указывает на преемственность и связь времен, укрепляет надежду на то, что следующее поколение будет помнить историю своей страны. Несмотря на то что в произведении доминирует субъективно-лирическое начало, автору удалось затронуть гражданскую проблематику и найти отклик у широкого круга читателей.
Каталонская литература xx века, салвадор эсприу, художественное пространство, синера, авторский цикл
Короткий адрес: https://sciup.org/147240753
IDR: 147240753 | УДК: 821.134.2 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.899
Текст научной статьи Средиземноморское и вымышленное пространство в сборнике "Кладбище Синеры" Салвадора Эсприу
В. Н. Топоров противопоставляет «геомет-ризованному и абстрактному пространству современной науки, имеющему и свой “стандартно-бытовой” вариант», мифопоэтическое пространство художественных текстов [6: 229]. Хотя у ученого, художника и обывателя складывается разное восприятие пространства, между читателем и поэтом нет непроницаемой стены непонимания, и мы с увлечением открываем пространства и миры, выходящие за рамки общепринятых, но не утрачивающие связи с ними, поскольку «художественное пространство обязательно сохраняет, в качестве первого плана метафоры, представление о своей физической природе» [4: 305].
В книге «Структура художественного текста», отдельная глава которой посвящена проблеме художественного пространства, Ю. М. Лотман подчеркивает, что функция места действий не сводится к описанию пейзажа как фона событий, она несет высокую смысловую нагрузку. Пространственный континуум текста складыва-
ется в наделенный предметностью топос, структура которого, представляя собой систему пространственных отношений, выступает в качестве языка для выражения непространственных отношений текста. Понятие «высокий-низкий», например, получает значение «ценный-неценный», «близкое» отождествляется со своим, родным и понятным, а «далекое» – с «чужим», в результате формируются модели, наделенные пространственными признаками [3: 267–280].
Указание на пространство часто присутствует в самих названиях сборников стихов каталонского поэта Салвадора Эсприу (1913–1985), оно определяет, сопровождает действия и эмоции лирического героя или созвучно им: «Кладбище Синеры», «Путник и стена», «Конец лабиринта», «Шкура быка», «Книга Синеры». Достаточно часто топос в лирике и прозе С. Эсприу восходит к определенной местности, вполне узнаваемой для осведомленного читателя-каталонца.
Салвадора Эсприу, одного из самых выдающихся каталонских писателей XX века, часто называют «национальным» поэтом [14: 114].
Эсприу, автор сатирических произведений и проникновенных лирических строк, размышлявший о смерти и границах познания, запомнился своим современникам прежде всего благодаря гражданской поэзии, стремлению с помощью творчества сохранить каталонское художественное слово. Каталонская литературная традиция уходит в глубь веков. На родном каталанском языке создавал свои философские и научные трактаты Рамон Льюль, автор первых в Европе романов в прозе. В середине XIX века в каталонской литературе начался период Возрождения, а в первой трети XX века ведущие позиции занял Ноу-сентизм, для которого характерна ориентированность на классические образцы античности, а также урбанизм, обращенность к идеальному городу, прообразом которого являлась Барселона. Именно в эти годы деятели каталонской культуры сосредоточили усилия на систематизации норм каталанского языка и комплексном изучении каталонской культуры. Следующее поколение литераторов, к которому принадлежит и Салвадор Эсприу, оказалось в благоприятной для творчества на родном языке атмосфере. Многие ровесники Эсприу, как и он сам, опубликовали первые произведения в достаточно юном возрасте в начале 30-х годов XX века. К поколению 1936 года, года начала гражданской войны в Испании, причисляют, наряду с Салвадором Эсприу, Жоана Виньоли, Пере Калдерса, Розу Леверони, Бартомеу Россельо-Порсела, Игнаси Агусти, Мариуса Торреса и других. Всех этих литераторов, родившихся в 1910–1914 годах, объединяет именно время, общая трагедия – гражданская война в Испании, наложившая отпечаток на их жизнь и творчество в самом начале пути, хотя эстетические взгляды или политические убеждения этих людей далеко не всегда совпадали. Так, поэт Игнаси Агусти в годы войны сотрудничал с франкистским журналом [17: 168], а Мариус Торрес был сторонником республиканских идей, хотя и начал их пересматривать после поражения Республики [18].
«Кладбище Синеры» ( Cementiri de Sinera ) – первая послевоенная книга Эсприу, опубликовавшего в 1930-е годы ряд произведений в прозе, и первое поэтическое произведение автора. Сборник со скромным тиражом в 100 экземпляров вышел в 1946 году. После переломной Сталинградской битвы наметилось ослабление казавшейся до этого незыблемой диктатуры в Испании, и во второй половине 40-х годов вопреки постулатам официальной идеологии, не поощрявшей самовыражение на региональных языках, часто на полулегальных условиях начали появляться в печати поэтические сборники признанных и молодых каталонских авторов.
Новая работа Эсприу имела большой успех среди немногочисленного круга людей, продолжавших интересоваться каталонской словесностью, и книги переходили из рук в руки. Издатель Ф.-П. Веррье отмечает, что реакция читателей на книгу поразила Эсприу и оказала влияние на его последующее творчество, укрепив формирование чуткого отношения к адресату, его чувствам и ожиданиям. В период создания «Кладбища Синеры» у Эсприу были все основания полагать, что каталанский язык, находившийся на грани исчезновения, прекратит свое существование, но для читателя это произведение означало, что язык продолжает жить и что за него стоит бороться [19: 617].
***
«Кладбище Синеры» открывает состоящий из пяти книг цикл, который условно принято считать лирическим в отличие от серии произведений, причисляемых к гражданской поэзии. Многие специалисты указывают на социальную составляющую и ранних поэтических произведений Эсприу, объединяющую тематически всю его поэзию; не является исключением и «Кладбище Синеры», где незримо присутствует военный конфликт 1930-х годов [11: 890–891].
Сборник стихов «Кладбище Синеры», являясь авторским циклом, обладает свойствами, присущими этому жанровому формированию, для которого характерен выход за пределы лирики и наличие эпического содержания [7: 5–6]. За сугубо личными переживаниями угадываются настроения эпохи, что обуславливает особую привлекательность этого лирического ансамбля.
Синера, прочитанное наоборот название каталонского прибрежного городка Ареньс-де-Мар, в котором у семьи Эсприу сохранился большой фамильный дом, разграбленный во время гражданской войны 1936–1939 годов [16: 134], наделена реальными чертами этого места, но не равняется естественному пространству. Синера – отражение идеализированного родного края, проникнутого лучами счастья, которое исчезло вместе с довоенным прошлым. Открывающее цикл стихотворение сразу задает систему координат: «Вот колесница солнца / по колеям съезжает / с холмов, где помню каждый / сосняк и виноградник. / Пойду между рядами / недвижных кипарисов / над морем штилевым» (23)1.
Благодаря метафоре, напоминающей о греческом боге солнца, свет волшебным образом падает на холмы и море, увеличивая обширное открытое пространство, которое не менее характерно для поэзии Эсприу, чем пространства маленькие и ограниченные, также встречающиеся в его книгах. Изображение не статично, неподвижность кладбищенских кипарисов контрасти- рует с направленным вниз движением солнца. Кроме того, вектор движения задает сам лирический герой, перемещения которого являются композиционной основой и соединительным звеном для всех тридцати стихотворений сборника, определяя лирический сюжет этого цикла-путешествия. Частое употребление глаголов движения в сочетании с использованием настоящего и будущего времени придает поэтическому повествованию динамичность, чередующуюся с медлительной созерцательностью. Хотя взгляд поэта устремлен в прошлое, с которым он прощается и о котором скорбит, грамматический акцент на настоящем и будущем знаменует преемственность и связь времен.
Примечательно, что в начале пути лирический герой находится «над морем». Создается впечатление, что он возвышается над поверхностью воды и над всем земным, то есть занимает позицию, позволяющую смотреть отстраненно, сверху вниз, на отчаяние и невзгоды. Такое месторасположение имеет объяснение, основанное на топографических данных. Кладбище Арень-са (прототип кладбища Синеры) стоит на горе, с которой открывается вид на море. Из второго стихотворения можно заключить, что именно оттуда лирический герой смотрит на родную землю: «Как ты мала, отчизна, / вокруг погоста! / Здесь – море, там – Синера: / пыль в колеях и цепи / холмов – лозы и сосны» (23–24).
В поэтическом пейзаже первых стихотворений сборника сосна и виноградники, распространенные на территории всего Средиземноморья [15: 69], соседствуют с зарослями фенхеля (fonollars), который Эсприу считал приметой именно каталонского побережья [10: 21]. Конкретизации географической местности способствует также единственный имеющий имя персонаж сборника – «Бабка Мунтала», за этим олицетворением кроются холмы Мунтал, расположенные близ Ареньса.
В следующем стихотворении, как и в большинстве других, связанное с движением действие разворачивается в настоящем, но обращено оно к прошлому, ценность которого автор сравнивает с куском хлеба, необходимым нищему, но не имеющим значения для благополучных обывателей: «Под окнами Синеры / вымаливаю крохи / памяти о былом. / И отдается слабо / в тиши безлюдных улиц / напрасная мольба» (24). Герой книги бродит в одиночестве по кажущейся пустынной Синере. Тем не менее созидательная деятельность и культура жителей присутствуют имплицитно. Начало седьмого фрагмента можно трактовать как описание устраиваемого в день города шествия в честь Святого Зенона, который с XVII века является покровителем Ареньса и которому посвящается этот июльский праздник. Эсприу родился 10 июля и получил первое имя, Салвадор, в память о дедушке, а второе, Зенон, – в честь покровителя Ареньса [9: 17].
«Вот гроздья винограда – терпки, сладки – / в серебряных ладонях / святого страстотерпца. / Огни свечей, мигая, неспешной вереницей / день провожают, дабы / принял он смерть во благе: / последнее причастье / памяти о Синере» (25).
В стихотворении нет веселья и шумной толпы, неизменно сопутствующих подобным мероприятиям. Лирический герой любуется этим событием, как будто издалека, сквозь время, наблюдает за беззвучной картиной из прошлого. В окрашенном гражданской войной 1936 году деревянная скульптура святого с отделкой из серебра была уничтожена и затем воссоздана в 1943 году [10: 194–195]. Совсем в ином ключе, насмешливо и иронично, без торжественных и скорбных тонов, строится описание аналогичного празднества в довоенном рассказе Эсприу «Наводнение»:
«Святой Ипполит целый год дожидается в своем закутке светлого часа. Знойного дня, двадцать второго августа. В этот день все воздают ему долгожданные почести. Храм гремит от песнопений, святого славят всем клиром, не жалеют ладана, служат пышную литургию. К вечеру его принаряжают и носят по улицам городка. <…> Повсюду танцы, шум, говор, смех» (211).
Светлый, звучный праздник в послевоенном стихотворении обретает сходство с поминальной процессией, которое было бы полным, если бы не жизнеутверждающий смысл субъекта действия («гроздья винограда»). Кисть винограда в руке святого покровителя – это плод кропотливого труда земледельца, надежда на хороший урожай, вера в будущее.
В стихотворении VIII запечатлена еще одна знаковая традиция Ареньса, зашифрованная в преддождевом пейзаже: «Дождь наготове. Бабка / Мунтала прячет солнце / в шкафу ненастий, между / мантилий, что Синера / сплетает на коклюшках» (25). В XIX веке Ареньс славился на всю Испанию своими рукодельницами, создававшими изысканные кружева, и в середине XX века местных искусниц все еще можно было увидеть за работой на улицах этого городка. Природное пространство одомашнивается, соединяясь с бытовым, приобретающим сказочный колорит, и Синера, в небе над которой расположен шкаф непогоды, становится синонимом дома, родного и любимого, обладающего бережно хранимой историей. «Шкаф», в котором среди традиций скрыт солнечный свет, единственный предмет обихода, встречающийся на страницах сборника, находится в пространстве Синеры, а не в доме и не в комнатах, о которых речь идет в следующих стихотворениях. Он, с одной стороны, представляет собой нечто замкнутое, а с другой – отличается изрядной вместительностью, поскольку хранит не только культурное достояние, но и внушительное по размерам светило. Пространство значительно расширяется благодаря действиям, разворачивающимся в небе. В десятом стихотворении ветер сражается с полчищами дождя, противопоставляя им гимн – оружие из торжественной музыки и слов, то есть инструмент поэта, и дождь, который, исходя из текста, нельзя трактовать как нечто сугубо отрицательное, умирает. «Вечерним ветром, гимном, старинной бронзой на войска дождя, уединение, обретенное с трудом. Боги-пастухи уводят в горы стада покорных облаков»2. Ж. М. Кастельет объясняет символику ветра в поэзии Эсприу, исходя из того, что для каталонских средиземноморских поселений разгоняющий тучи ветер – предвестник хорошей погоды и возможности продуктивной работы в поле или на море [8: 68].
Просторы – небесные, земные или морские – с давних пор ассоциируются у людей со свободой [5: 90]. О том, что свобода жизненно необходима человеку, Эсприу неоднократно заявлял на страницах своих книг.
Безграничные пространства соседствуют в сборнике с пространствами лимитированными, это родной край, который лирический герой Эсприу воспринимает как нечто обособленное: «в древних пределах родного виноградника и моря» (28). Это родной дом из кульминационного стихотворения XXV, в котором, в отличие от большинства других фрагментов, используется прошедшее время, указывающее на утрату: «Около моря / были мой дом и надежды» (28). Замкнутое, знакомое пространство дома обещает упорядоченность и защищенность: «Глаза мои знали / пространство покоя и мерный порядок / маленькой родины», но не ограничивает свободу: «Свобода / синих дорог, и корабль, на котором / я был капитаном» (28).
Синера-Ареньс, где стоит отчий дом, где выросло не одно поколение путешественников-мореходов, – часть необъятного мира, она связана с ним тысячью дорог, но именно земля отцов наполняла жизнь смыслом и надеждами. Об этом следующее стихотворение, связывающее реалию «дом» с понятием «родина», первостепенной незыблемой ценностью: «Я оставляю / тебе в наследство / эту просторную могилу, / которая была мечтой, и смыслом, / и землей наших предков» (28). Существительное «дом» автор использует в сборнике лишь в тех случаях, когда речь идет об отчем доме, подчеркивая таким образом его уникальность; в стихах, в которых возникает городок и его улицы, для обозначения жилых строений применяется слово «portal»
со словарным значением «подъезд», «главный вход».
Лирический герой, попрощавшись с родительским домом, возвращается к исходной точке, к белым кладбищенским стенам, где ищет защиты от бед, бороться с которыми больше нет сил. Цикл завершается не отказом от жизни, а обращением к человеку из будущего, надеждой на то, что следующее поколение не отмахнется от имен прошлого и от истории. В последнем стихотворении лирический герой просит друга из грядущего пожелать, «чтоб снилось мне / море штилевое / и ясный свет Синеры» (29).
В разделе о Древней Греции, который Эсприу подготовил для трехтомного издания «Всемирной истории», вышедшего в 1943 году, поэт, придумавший Синеру, дает следующее описание родины:
«Родина для истинного грека (возможно, и в целом для настоящего жителя Средиземноморья) – это город, где родились и умерли предки, где он сам родился и умрет в назначенный день, и земля вокруг, которую глаз охватывает без усилия и понимает до мельчайших деталей: источник, почти пустынные почвы, солнце в пыли, кипарисы, маленькое пшеничное поле у дороги между оливковых деревьев свинцового цвета. Виноградник взбирается по склону горы до самой грани. Вдали усеянное островами море без широких горизонтов, сулящее спокойное плавание» [9: 475–476].
Синера из поэтического сборника является довольно точной иллюстрацией этого определения. Хотя некоторыми каталонскими специалистами Синера воспринимается как «синекдоха географической территории Каталонии» [13: 95], тексты Эсприу говорят об общности этого вымышленного городка с более крупными, не имеющими четких официальных границ территориальными формированиями, такими как Средиземноморье или Сефарад.
В 1943 году в Барселоне, с указанием в качестве места издания Буэнос-Айреса, мизерным тиражом вышел сборник стихов старшего современника С. Эсприу поэта-ноусентиста Карлеса Рибы «Бьервильские элегии» (Elegies de Bierville) [12: 124]. В центре внимания автора сборника, который каталонские литературные критики называют образцом гражданской поэзии, Греция с ее величественными разрушенными храмами, живительными источниками и морскими просторами. Лишь в последнем стихотворении книги поэт обращается к своей родине, адресуя ей этот цикл. В структуре и содержании «Бьервильских элегий» и «Кладбища Синеры» больше различий, чем общего, но эти два произведения объединяет обращение к средиземноморскому пространству и к будущему как источнику надежды. Несмотря на утверждения о том, что Салвадор Эсприу в числе первых освободился от влияния Ноусен- тизма [14: 120], в творчестве Рибы и Эсприу можно найти точки соприкосновения и говорить о преемственности поколений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанная с любовью и теплотой Синера – не просто фон, на котором происходят события, она становится персонажем поэтического цикла наряду с я-субъектом, сосредоточенным на взаимосвязи с этим местом, отношении к нему. Именно в этом сборнике неоднократно звучит слово «родина». Это особенный, отгороженный от остального мира уютный, хранимый в воспоминаниях край и часть общего культурного и географического пространства Средиземноморья. Всеволод Багно называет Сервантеса «граждани- ном Средиземноморья, а не только своей страны» [1: 495]. Лирический герой Салвадора Эсприу – гражданин Синеры и Средиземноморья.
Ю. М. Лотман отмечал возникновение двойной адресации в художественном тексте, содержащем конкретно-биографические детали. С одной стороны, имитируется обращенность к узкому кругу лиц, разделяющих с адресантом объем и характер памяти, с другой стороны, текст адресован любому читателю, не знакомому с внетекстовыми обстоятельствами [2: 88–93]. Даже тот читатель, который не имеет возможности распознать в Синере признаки каталонского побережья, готов проникнуться привлекательностью, уникальностью и универсальностью этого места.
Список литературы Средиземноморское и вымышленное пространство в сборнике "Кладбище Синеры" Салвадора Эсприу
- Багно В. Е. Сервантесовский код Средиземноморья // Багно В. Е. Испанцы трех миров. Посвящается Хуану Рамону Хименесу. М.: Центр книги Рудомино, 2020. С. 495-500.
- Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера - история. М.: Языки русской культуры, 1996. 464 с.
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 383 с.
- Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. С. 297-345.
- Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре. М.: Лабиринт, 2007. 480 с.
- Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура: Сб. статей. М.: Наука, 1983. С. 227-284.
- Фоменко И. В . Лирический цикл: становление жанра, поэтика. Тверь: Твер. гос. ун-т, 1992. 123 с.
- Castellet J. M. Iniciació a la poesia de Salvador Espriu. Barcelona: Edicions 62, 1984. 182 p.
- Delor i Muns R. M. Salvador Espriu, els anys d'apenentatge (1929-1943). Barcelona: Edicions 62, 1993. 520 p.
- Espriu A., Nogueras N., de Pons M. A. Aproximació histórica al mite de Sinera. Barcelona: Curial, 1983. 417 p.
- Gareth Walters D. "Sense cap nom ni símbol:" Recovery and identity in Salvador Espriu's Cementiri de Sinera // The Modern Language Review. 1994. № 89 (4). P. 889-901.
- López Vilar M. El camino délfico: transformación y plenitud del futuro en la escritura de las Elegies de Bierville de Carlos Riba // Tropelías: revista de teoría de la literatura y literatura comparada. 2018. № 30 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/326626504_El_camino_delfico_transformacion_y_ plenitud_del_futuro_en_la_escritura_de_las_Elegias_de_Bierville_de_Carles_Riba (дата обращения 10.06.2022).
- Méndez Rubio A. Por la humilde aventura: crítica y crisis en la lírica temprana de Salvador Espriu // Tropelías: revista de teoría de la literatura y literatura comparada. 2018. № Extra 4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6570310 (дата обращения 10.06.2022).
- Parcerisas F. Espriu a les mans dels seus primers lectors // Ítaca: quaderns catalans de cultura clássica. 2017. № 33 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://raco.cat/index.php/Itaca/article/view/98414/426345 (дата обращения 10.06.2022).
- Pijoan i Picas M. I. Salvador Espriu o els itineraris de la poesia. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991. 250 p.
- Pons A. Un biógraf al laberint d'Ariadna // Ítaca: quaderns catalans de cultura clássica. 2017. № 33 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://raco.cat/index.php/Itaca/article/view/335514 (дата обращения 10.06.2022).
- Ripo11 B . ¿Malos tiempos para la lírica? Poesía y propaganda en la revista Destino durante la Guerra Civil // Anales de Literatura Española. 2020. № 33 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://doi.org/10.14198/ ALEUA.2020.33.09 (дата обращения 10.06.2022).
- Suades Juncadella L. Sobre la relació individu/societat en Márius Torres: cap a una influencia maragalliana // Haidé. Estudis Maragallians. Butlletí de l'Arxiu Joan Maragall. 2020. № 9 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://doi.org/10.48284/Haide2020.9.9 (дата обращения 10.06.2022).
- Taula rodona "Els editors"//Si de nou voleu pasar. I Simposi Internacional Salvador Espriu. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005. P. 613-638.