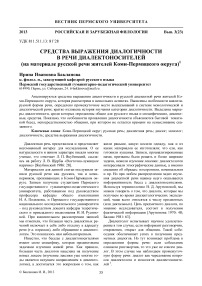Средства выражения диалогичности в речи диалектоносителей (на материале русской речи жителей Коми-Пермяцкого округа)
Автор: Бакланова Ирина Ивановна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 (23), 2013 года.
Бесплатный доступ
Анализируются средства выражения диалогичности в русской диалектной речи жителей Коми-Пермяцкого округа, которая рассмотрена в нескольких аспектах. Выявлены особенности анализируемой формы речи, определено промежуточное место высказываний в системе монологической и диалогической речи; кратко изложена история изучения категории диалогичности. Выделены маркеры диалогичности, среди которых определены общие для русского языка и специфические, диалектные, средства. Показано, что особенности проявления диалогичности объясняются бытовой тематикой бесед, непосредственностью общения, при котором не остается времени на осмысливание сказанного.
Коми-пермяцкий округ, русская речь, диалектная речь, диалог, монолог, диалогичность, средства выражения диалогичности
Короткий адрес: https://sciup.org/14729235
IDR: 14729235 | УДК: 811.511.13:
Текст научной статьи Средства выражения диалогичности в речи диалектоносителей (на материале русской речи жителей Коми-Пермяцкого округа)
Диалектная речь представляла и представляет несомненный интерес для исследования. О ее натуральности и живом характере писали многие ученые, это отмечает Л. П. Якубинский, ссылаясь на работу Л. В. Щербы «Восточно-лужицкое наречие» [Якубинский 1986: 28].
Материалом для данной статьи послужили записи русской речи как русских, так и коми-пермяков, проживающих в Коми-Пермяцком округе. Записи получены студентами Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, работавшими под руководством профессора кафедры общего языкознания И. А. Подюкова, и Пермского государственного национального исследовательского университета – под руководством доцента кафедры теоретического и прикладного языкознания И. И. Русиновой. При внимательном рассмотрении записей мы отметили, что бóльшая часть диалектных речений включает в себя либо отсылку к адресату речи (т.е. пересказ), либо обращение к диалектологам. Это показалось нам небезынтересным.
Известно, что беседы с диалектоносителями имеют свою специфику, которая продиктована задачами изучения живой речи. Как правило, большая часть диалогов нацелена на получение новых лексем (изучение лексики уже многие годы является ведущим направлением в диалектологии), а достигается это вопросами о том, как жили раньше, какую носили одежду, как и из каких материалов ее изготовляли; что ели, как готовили кушанья. Записи, проанализированные нами, призваны были решать и более широкие задачи, нежели изучение лексики: диалектологов интересовали этнографические данные, а именно сведения об обрядах: похоронном, поминальном и пр. Но при любом распределении задач изучения диалектной речи важнее всего оказывается информативность бесед с диалектоносителями. Используя терминологию Н. Д. Арутюновой, мы можем говорить о том, что диалоги, которые мы получаем во время диалектологических экспедиций, чаще всего относятся к числу предметных (или диктальных). Цель предметного диалога, по мнению исследователя, состоит в получении фактической информации [Арутюнова 1970: 48; Балаян 1981: 63].
Диалектолог испытывает научное удовлетворение в том случае, если информант разговорчив, откровенен, открыт для общения. Такой собеседник обеспечивает успех в получении предметных диалогов. Но тут возникает проблема в определении формы речи: если собеседник слишком разговорчив, то это уже не совсем диалог. В этом случае мы наблюдаем промежуточную форму речи: диалог как чередование вопросов диалектолога и монологов диалектоносите-лей 2.
Задача данной статьи – проанализировать средства диалогичности в живой диалектной речи. Мы отдаем себе отчет в том, что выбранный материал не отражает специфику говоров именно этой диалектной зоны (Коми-Пермяцкий округ), а показывает особенности русской диалектной речи в целом. Выбор этого материала обусловлен тематикой бесед (об обрядах, нечистой силе и пр.): говоря о тайном, сверхъестественном, сакральном, люди нередко ссылаются на чужой опыт, кроме того, часто они обращаются к воспоминаниям, полученным от неопределенного лица. В задачи этой статьи не входит выявление специфики употребления средств диалогичности у того или иного народа, более того, мы предполагаем, что эти средства в русской речи русских и коми-пермяков будут одинаковыми. В данной работе мы попытаемся проследить, есть ли в диалектной речи специфические средства выражения диалогичности, для этого обратимся к исследованиям этой категории в лингвистике.
Изучением диалогической речи занимались многие исследователи, отметим лишь основные работы. Так, общие вопросы диалога рассмотрены А. К. Соловьевой [Соловьева 1965]. Категория диалогичности в функциональном семантико-стилистическом плане изучена на примере письменных текстов, в частности текстов научного и публицистического стилей [Кожина 1981; Дускаева 2006а; Данилевская 2012]. Анализ текстов названных стилей позволил понять полевую структуру категории диалогичности, представленную микрополями. Исследователями названы ядерные маркеры диалогичности: прямая и косвенная речь (цитация); вводные слова, словосочетания и предложения, передающие источник сообщения; ссылки, сноски, а также вопросноответные комплексы (ВОК) [Дускаева 2006б: 134].
Учитывая непосредственность общения информантов с диалектологами, неподготовленность, непродуманность диалектной речи, ее прерывистость, постоянный отход от темы разговора, полагаем, что в живой речи маркеры диалогичности могут быть иными или могут быть по-другому представлены количественно.
Общение с диалектоносителями происходит «лицом к лицу», поэтому в их речи присутствуют средства диалогичности, указывающие на обращение к собеседнику (чаще диалектологу): видишь (вишь), знаешь (знашь). Как показывают примеры, носители говоров обращаются на «ты», что, однако, не говорит об их невоспитанности. Скорее всего, это свидетельствует о том, что диалектоносители видят в собеседнике «сво- его» человека: неслучайно же они ведут с ним разговор. Рассмотрим это на примерах:
-
1) вон на окн’е́ стоит́ ви́иш во́зл’е сту́ла усы́ вы́ пуст’ил’и// два у́са на́до ср’е́зат’ да на-стойа́т’// на во́тк’е аγа́// йа на самого́н’е д’е́лала 3// (Юсьвинский р-н);
-
2) коч’ерга´/ э´то зна´эш / на сп’и´ну сы´п выко´ д’ит// йа´ н’иково´ н’е вызыва´ла// йа´ н’ич’о´ н’е йе´ ла да´к/ так’и´-то шыпо´вн’ик’и да што´ да// го-вор’а´т/ кто´ б’ер’е́м’енна когда´/ да´к шы-по́вн’ик’и йед’а´т/ и по´сл’е йе´тово коч’ерга´ вы-ко́д’ит на сп’и´ну // (Гайнский р-н);
-
3) во´т ы дуба´сы/ во´т на дуба´сах/ во´т йа´ по´ мн’у ф трэт’ем кла´с’е/ та´к фс’о´ ход’и´ла ф шко́лу в дуба´сах// го´лайа одна´/ во´т на э´той од’е´ н’еш дуба´с/ она´/ знаш / как ко´л’ет/ вот так сара´ пайет/ кра´снойе фс’о´ т’е´ло бу´д’ет// (Гайнский р-н).
Обращение к диалектологу может быть выражено грамматически с помощью употребления местоимений ты , вы (в случае, если несколько диалектологов): трубоч’и´стом игра´л’и да// во´т напр’им’е´р/ мы´ с тобо´й с’уда´ та´г з’д’е́лаэм / ид’о´м то́же т’ико´н’еч’ко/ та´м мно´го стойа´т// ты´ воз’м’о´ш о´т ч’е́р’ес то´же ч’елов’е´ка и та´м ч’е́р’ес трубу´-то ид’о´ш то´же ч’е´р’ез ру´к-то// опэ´т’ фтора´йа то´же та´г же ид’о´т та´м/ воз’м’о´т и пойд’о´ш по фс’ему´ у´л’ице// ( Гайн-ский р-н);
[Лён убирали?] ой/ тогда́ эт́ ово мно́го бы́ ло// тр’епа́т’/ ч’еса́т’/ э́то вш’а была́ наш́ а рабо́та вот// н’икуда́ н’е пойд’о́ш// н’икуда́ н’е пуска́ли// снач’а́ла пос’е́йут л’он/ вы́раст’ет/ э́того вы н’е зна́йет’е // рв’ом/ вы́сушыт/ э́то зд’е́лайут/ как сказа́т’/ позабы́ла уже́/ вы́сокн’от отб’ива́т’ л’он/ а пото́м ст’е́л’ат на з’е́мл’у/ э́то фс’о го-то́во как бу́д’ет// (Юсьвинский р-н).
Средством выражения диалогичности является и передача чужой речи [Дускаева 2006б: 131]. В наших материалах это чаще всего представлено в виде пересказа какого-либо события. И здесь мы находим яркое подтверждение слов Л. П. Якубинского: «В отличие от монолога, диалогическое общение подразумевает высказывание «сразу» и даже «лишь бы», «как попало»; только в некоторых особых случаях, которые сознаются нами как особые, мы констатируем при диалоге обдумывание, выбор» [Якубинский 1986: 35–36]. Эта мысль может быть распространена и на монологические высказывания в той форме, которая выбрана нами для изучения.
Чужая речь в рассказах диалектоносителей передается по-разному, но в большинстве случаев непоследовательность в выборе средств ее передачи приводит к недопониманию опрашивающим сюжета разговора. Рассмотрим один из фрагментов диалектных записей: ма´ма расска´ зывала// говор’и´т/ э´то/ с сос’е´ткой/ говр’и´т/ пошла´ йа´/ ну´/ слу́шат’ у´тром/ ч’еса´ ч’еты´р’е-п’а´ т’// это…под око´шко-то подойд’о´ш ы слу́шайеш/ ч’о´ она´ д’е´лайет// йа´/ гор’и´т/ по-дошла´ к око´шку-то// ма´ма э´то раска´зывала/ йа´ бойез’л’и´ва была´/ йа´ н’икуда´ н’е код’и´ла д’е´ фкой-та да´к/ н’е гада´ла// ну´ и э´то запла´кала/ гор’и´т/ она´ пла´ч’ет ч’о´-то коз’а́йка-то/ жен’ш’ш’ина-то// йа´/ гор’и´т/ пошла´ бо´л’ше домо´й/ пр’ишла´/ ма´м’е сказа´ла// (Гайнский р-н).
Как видим, говорящий, пытаясь дословно пересказать сюжет, применяет прямую речь: э´то/ с сос’е´ткой/ говр’и´т / пошла´ йа´/ ну´/ слу́шат’ у´ тром/ ч’еса´ ч’еты´р’е-п’а´т’. Однако, чувствуя, что собеседник-диалектолог (или студент-практикант) не совсем понимает суть происходящего когда-то с мамой, информант включает свой комментарий: это…под око´шко-то по-дойд’о´ш ы слушайеш/ ч’о´ она´ д’е´лайет. Далее опять прямая речь: йа´/ гор’и´т / подошла´ к око´ шку-то.
Такое перескакивание с одного средства передачи чужой речи на другое, внесение собственных комментариев, несомненно, запутывает нить повествования, усложняет понимание сказанного и в целом создает впечатление о речи, сказанной «как попало».
Как ни странно, прямую речь, своеобразно оформленную, информанты используют гораздо чаще, чем косвенную. В качестве слов автора при прямой речи в большинстве примеров используется глагол говорить :
-
1) пото́м йа говор’у́ Ва́л’а зна́йеш ч’о/ у м’ен’а́ н’е́рвы/ вот ч’у́ха затр’асла́с’а/ говор’у́ / вот та́к// дава́й/ говор’и́т / уко́лы поста́в’им// ой/ говор’у́ / йа бойу́с’а уко́лоф// э́т’их уко́лоф йа напр’ин’има́лас’а дак н’е да́й бох// ну и/ дак по-ка́йешша в’ет’// дак ка́йус’ и ес’/ на́до бы́ло уко́лы-т’е пр’ин’а́т’// (Юсьвинский р-н);
-
2) и тако´йе/ гор’и´т/ высо´кайа же´н’ш’ш’ина и обл’и´ч’йо-то/ гор’и´т / на мойу´ ма´му/ гор’и́т // ты´ мн’е´/ гои´т / з’а´т’/ йа´ т’еб’е´ т’о´шша// во´т та´к/ гор’и´т / и сказа́ла// ид’о´м/ гор’и´т / со мно´й// н’е´т/ пойду´/ гор’и´т / зайду´ до´ч’ер’е-то скажу́с’ тожно´// а йа´ са´м н’е пойду´// за забо́рн’у-ту/ гор’и´т / скват’и´лса и н’е иду´ // (Гайнский р-н);
-
3) он сра´зу йейо´ познако´м’ил с оцо´м/ с ма´ т’ер’у/ пр’и´н’ел’и и´х/ за сто´л посад’и´л’и// йа´/ гы´ т / кон’е´шно/ ру´ку побойа´лас’ да´же шев’ел’ну´т’/ нав’е´рно/ н’е то´ што´ та´м йеш’ш’о´ вз’ат’ ло´шку да што´-то похл’еба´т’// ( Гайнский р-н).
Прямая речь в монологах диалектоносителей может быть построена по разным моделям: слова автора могут стоять впереди или разрывать прямую речь.
-
1) Слова автора впереди прямой речи: то´л’ко сказа´ла / йа´ бо´л’ше т’еб’е´ н’а´н’ч’ит’ н’е бу´ду/ дава´й н’а´н’ку другу´йу ишшы´/ ты´ в т’а´гос’т’и ко´ д’иш// ф положе´н’ийи зна´ч’ит; и она´ поло´жыла взголо´в’йа и говр’и´т // пуска´й мн’е´ во сн’е´ пр’ив’и´ д’ицца жен’и´к-то// ну´-ка/ како´й о´н у мн’а´ бу´ д’ет// (Гайнский р-н).
-
2) Слова автора разрывают прямую речь: ну´ а пото´м пр’ивы´ кла пот’ихо´н’ку/ куда´ д’ева´тца// бр’у́к’и / гр’и´т/ холш’ш’о´вые ст’ира´д’ заста´ в’ил’и// фс’е´ са´мотка´нныйе/ у д’е́душк’и во бр’у´ к’и-то/ вы´ ше ма´мы ; у нас одна с’естра вопшэ пот сусло́ном род’и́лас’// йа вот в ийу́н’е дак мн’а то́жо / говор’и́т/ фс’о вр’е́м’а нос’и́л’и пот сусло́н-от/ пото́м жат’ ста́л’и// вот ун’есу́т/ два м’е́с’аца р’еб’о́нку/ пот сусло́н поло́жат и фс’о и она́ работ́ айет// (Гайнский р-н).
Примеров, где прямая речь предваряет слова автора, мы в текстах не обнаружили, но полагаем, что теоретически это возможно.
Носители говоров при передаче чужой речи используют и косвенную речь, которая оформляется с помощью лексических средств: глаголов с семантикой говорения, восприятия ( слыхать , сказать , говорить ) и союза что в придаточной части с изъяснительной семантикой:
-
1) то´л’ко до Га´йен ушла´ и доро´гой-то// с’о´ ровно´// гои´т/ м’ен’а´ л’е´шый-то вод’и´л да´к/ фс’о´ ровно´ в э´тот го´т умру´// мн’е´/ гои´т/ о´н сказа´л / што´ умр’о´ш// (Гайнский р-н);
-
2) м’ина́ ф со́рок д’ев’а́том году́ д’е́лал’и оп’ера́цыйу/ то ф п’ис’а́т д’ев’а́том году́/ зоп удал’а́л’и// и вот сказа́л’и / што он оп’а́т’ раст’о́т// ну вот у м’ина́ сы́ну п’е́рвому бы́ло фс’ево́ д’е́в’ат’ м’е́с’ацов/ йа уйежа́ла вот на оп’ера́цыйу/ ну вот п’ила́ йево́ по д’ес’е́ртной ло́жеч’к’е на голо́днойе/ помога́ло// (Юсьвинский р-н).
Анализ монологов показал, что диалектоно-сители не стараются сделать рассказ понятным для слушателей, поэтому с точки зрения информативности, сохранения сюжета эти монологи вряд ли можно назвать находкой для исследователя. Однако есть случаи успешного использования средств передачи чужой речи. Так, в истории о том, как украли маму, молоденькую, маленькую девчушку, в семью рослых, крупных людей, рассказчица сумела сохранить сюжет: пр’ив’езл’и´ / она´ зашла´/ бои´ца йеш’ш’о´ заход’и´т’// во´т ка´к зайд’и´// ч’ужо´й до´м софс’е´м// захо´д’им/ говор’и´ т/ мы´/ два´ бра´та и йа´/ за столо´м с’ид’и´т грома´ дный мужы´к/ бо´л’ше дву´х метроф ро´ста бы´л д’е´ душко на´с/ бы´л тако´й огро´мный// ту´т йеш’ш’о´ сы´н с’ид’и´т/ та´м с’о´стры/ фс’е´ так’и´йе кру´ пныйе// она´ оп’е´шыла/ н’е зна´йет// и н’е уб’ежы´ ш/ куда´ т’еп’е´р’ уб’ежы´ш п’ешко´м/ моро´з на у´ л’цы/ но´ч’// а ка´к ты´ домо´й пойа´в’ишс’а/ ска´ жыш/ гд’е´ ты´ была´// да´ и от’е´ц ра´зв’е пу´ с’т’ит// (Гайнский р-н). Как видим, комментарий рассказчицы умело включен в повествование.
Небезынтересно было проанализировать и то, на кого ссылаются в своих речах диалектоноси-тели, т.е. как обозначены «чужие смысловые позиции» [Дускаева 2006б: 131]. Известно, что в научной и публицистической литературе пищу-щие ссылаются на авторитетные источники (цитируют ученых, известных политиков и проч.). В диалектной речи, как показал материал, есть свои «авторитеты»:
-
1) и во´т ы но´ч’у ста´л то´ко гр’ем’е´т’/ го-вор’и́д/ дв’е´р’и-то// она´ п’ер’епуга´лас’ да на п’е´ ч’ку г ба´бушк’е// ма´ма-то раска´зывала / та´к’ и оста´в’ила/ дрожу´/ говор’и´т// то´л’ко како´й т’а´ т’ка-то бы´л/ тако´й обл’и´ч’йом/ и пр’ишо´л и про´ с’ит пода´рок-то/ про´с’ит… // во´т та´к пр’им’еч’а´л’и/ и э´то збыва´лос’// и йе´сл’и ко´л’ н’е пры´гн’еш/ говр’и´т/ да´к та´к заду´шат йешо´// эт’и н’е л’у´д’и/ а э´т’и… сво´лоч’и как’и´йе-то ко´ д’ат// (Гайнский р-н);
-
2) ф Крохал’о́ве жыла́ там з д’е́душкой / а он м’ен’а́ н’е броса́йет/ он фс’егда́ говор’и́т / йа т’еб’а́ н’икогда́ н’е бро́шу// (Юсьвинский р-н);
-
3) Воло́т’ка [сын] пр’ишо́л и говор’и́т / ма́ма/ ты/ говор’ит/ т’ел’онок мал’ен’кой// да какой тако́й/ говор’у́/ бол’шо́й л’и ч’о́ эт́ о// он у м’ен’а́ тр’и дн’а н’е п’и́л/ йе́тот т’ел’о́нок/ он йево́ згла́з’ил// (Юсьвинский р-н);
-
4) а э́то то́жо у ста́рых жо слыха́ла / на́до/ говор’и́т йево́ взбры́знут’ с в’е́тру-ту/ пр’ид’о́ш да с в’е́тру бры́зн’и/ в рот воды́ наб’ер’и́ и бры́зн’и// то йе́то/ как говор’и́тс’а в’ет’/ сло́во/ ис п’есн’и слово н’е вык’ин’ош/ так же и это// ч’о́рному-ч’ер’о́мному сол’ ф шары́/ йе́то на́до сказа́т’// сама́-то собо́й ду́май то́ко// (Юсьвин-ский р-н);
-
5) как стару́шк’и мн’е сказа́л’и / вы́мой тр’и лошк’и/ вымой их/ нат скопкой над дв’ер’ам’и// йа говор’у́/ ско́пка гр’а́знайа/ фс’е има́йуцца// нич’аво́ н’е бу́д’ет/ умо́й/ фс’о// (Юсьвинский р-н);
-
6) с’о быва́ло/ он [ревновал] м’ен’а́ и/ йа йево́ и/ по д’е́лу/ пл’еса́т’ л’и́бо ч’о пойду́ дак// ох то́ко дра́лса// дак р’евноство́/ подру́г’и-т’е на-ска́жут ч’о н’е на́до/ вот он и д’ер’о́тса// (Ко-чевский р-н);
-
7) л’есу́ тож́ е говор’а́т ит’т’и́/ т’ер’а́йуцца/ пр’а́тайут доро́гу// дак/ тут одна́ жен́ тшына говор’и́ла// на́о л’ес закод’и́т’/ за мал’и́ной ид’о́м// на́до говор’ит ц’о́-то слома́т’/ в’е́тку// то́бы обра́тно-то вы́т’т’и (Кудымкарский р-н);
-
8) Ф’едо´с’йа да ч’о да бы´ л’и/ говор’а́т // мы´ в’ет’ в Москвý вы´шл’и/ по ко´м’и говор’ат он’и´//
ф какýйу Москвý/ тата́рск’ий мог’и´л’н’ик (Юсь-винский р-н).
Анализ приведенных примеров показывает, что диалектоносители ссылаются на воспоминания пожилых (старых) людей, родителей, детей, соседей. В этом проявляется специфика диалектной речи: тематика бесед в основном носит бытовой характер; сфера общения ограничена близкими родственниками, соседями; жизнь вращается по одному кругу.
Иногда диалектоносители не указывают на конкретное лицо, от которого получена информация. В этом случае говорящие используют неопределенно-личные предложения, для которых характерна семантика неопределенного лица (кто-то, некто):
-
1) йес’ и б’елыйо/ йес’ и красныйо// мухоморы с’а́к’ийе росту́т// а с’о́годы говор’а́т н’ич’о́ н’е́ту// (Косинский р-н);
-
2) у скота´-то бы´л’и э´т’и/ к’и́шк’и-то// к’и´ шк’и-то э´то воз’м’о´ж да вы´ ч’ист’иш и э´то/ поло´жыш та´с// ф п’е´ч’ку поло´жыш/ та´м он’и´ сл’и´ск’ийе бу´дут/ пото́м э´т’им и с’т’ира´л’и// мыла-то н’е быва´ло да´к/ а порошо´к н’е´ был/ а э´ то сказа´л’и / во´т э´то шшо´лок/ шшолоком д’е´ лал’и// а шшо´лок/ э´то зо´лу-ту ло´жыл’и с п’е´ ч’к’и-то// во´т эт’им шшо´локом/ м’а´ккайа вода´-то/ ка´к э´то сл’и´скайа// (Гайнский р-н);
-
3) ста́рыйе вы́брос’ит’ мо́жно/ йа и н’е бро-са́йу/ йе́сл’и град бу́д’ет л’е́том/ дак тогда́ бро-са́йут на у́л’ицу/ грат когда́ ид’о́т// вы-бра́сывал’и тут на у́л’ицу их/ толды́ град́ -от пр’екрашша́тса д’е/ та́к эт’ гова́р’ивал’и ра́н’ше// (Кочевский р-н);
-
4) вот э́тот л’он соб’ер’о́м да што́-н’ибут’ зд’е́лайем// н’е́которыйе говор’а́т ткан’ до́рого-до́рого/ пуска́й до́рого// сарафа́н покупа́ла/ т’омно-с’ин’ий/ вот// сарафаном нос’ила/ нос’и́ла/ пото́м йу́пку зд’е́лала// (Юсьвинский рн);
-
5) на́ ног’и ла́пт’и// на ла́пт’и пойаск’и́ кра́сныйе/ порт’а́нк’и б’е́лыйе/ вот// это обу́йуцца и вот та́к крас’и́во д’е// кра́сныйе пой-аск’и́/ пойаско́м называ́л’и // (Косинский р-н).
Может быть использована и другая форма: йа´ слыка´ла то́же/ што´ коч’ерга´/ говор’и´т/ у йо´/ у р’еб’о´нка йе´с’// р’ев’о´т ы р’ев’о´т (Гайнский р-н).
Средства выражения диалогичности в диалектной речи жителей Коми-Пермяцкого округа представляют собой интересный материал. В нем, несомненно, отражены общие для всего русского языка механизмы: используются ссылки; применяется прямая и косвенная речь. Обратим внимание и на то, что одни и те же средства используются и в исконно русской речи, и в русской речи коми-пермяков (преобладание приме- ров из речи жителей Гайнского и Юсьвинского районов объясняется бо́льшим объемом расшифрованных текстов). Однако общерусские механизмы живой, неподготовленной, не мотивированной на владение литературной нормой речи наполнены совсем иным, нежели в книжной речи, содержанием. Во-первых, при передаче чужой речи отсутствует книжная лексика типа сообщили, проинформировали. Во-вторых, отмечается лексическое и синтаксическое однообразие средств передачи чужой речи (нет мотивации избежать лексических повторов; разнообразить синтаксические конструкции). В-третьих, диа-лектоносители в своих речах ссылаются на опыт людей из их ближайшего окружения, что говорит о замкнутости их жизни, о материальных и духовных ценностях: срабатывает принцип «если я об этом говорю (или помню), значит, это важно для меня». Изучение средств диалогичности в диалектной речи в данной работе, естественно, представлено не полностью. Работа в этом направлении нам видится весьма перспективной: она важна не только с научных позиций, но и в методическом плане, так как ежегодно диалектологи выезжают в экспедиции для сбора материала. Наблюдения за уже имеющимися записями покажут, как наиболее успешно вести диалог с информантами.
MEANS OF DIALOGUENES EXPRESSION
IN THE SPEECH OF NATIVE SPEAKERS OF THE DIALECT
Нead of Russian Language Department
Perm State Humanitarian Pedagogical University
Список литературы Средства выражения диалогичности в речи диалектоносителей (на материале русской речи жителей Коми-Пермяцкого округа)
- Арутюнова Н. Д. Некоторые типы диалогических реакций и «почему»-реплики в русском языке//Филологические науки. 1970, №3. С. 44-58
- Балаян А. Р. Еще один монолог о диалоге (и полилоге)//Русский язык за рубежом. 1981. №4. С. 62-66
- Данилевская Н. В. Ослабление диалогичности как проявление кризиса массовой коммуникации//Электр. журн. факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова «Медиаскоп». 2012. Вып. 4. URL: http://www.mediascope.ru/node/1239 (дата обращения: 30.07.13)
- Дускаева Л. Р. Диалогичность речи//Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М.: Флинта, Наука, 2006а. С. 45-53
- Дускаева Л. Р. Категория диалогичности (функциональная семантико-стилистическая)//Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М.: Флинта; Наука, 2006б. С. 130-139
- Кожина М. Н. Диалогичность письменной научной речи как проявление социальной сущности языка//Методика и лингвистика. М., 1981. С. 187-214.
- Соловьева А. К. О некоторых общих вопросах диалога//Вопросы языкознания. 1965. №6. С. 103-110
- Якубинский Л. П. О диалогичности речи//Л. П. Якубинский. Избранные работы: Язык и его функционирование. М.: Наука, 1986. С. 17-58