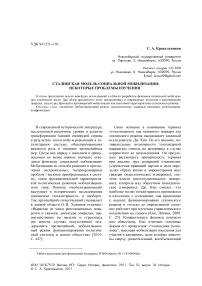Сталинская модель социальной мобилизации: некоторые проблемы изучения
Автор: Красильников Сергей Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 10 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ новейших исследований в области разработки феномена социальной мобилизации сталинской эпохи. Дан обзор предметного поля, традиционных и современных подходов к рассмотрению природы, структуры, функций и противоречий мобилизации как системной характеристики сталинского режима.
Сталинизм, мобилизационный режим, идеологические, кадровые кампании, консолидация, конфронтация
Короткий адрес: https://sciup.org/14737398
IDR: 14737398 | УДК: 94
Текст научной статьи Сталинская модель социальной мобилизации: некоторые проблемы изучения
В современной исторической литературе, исследующей различные уровни и аспекты трансформации бывшей имперской страны в результате эпохи войн и революций в тоталитарную систему, общепризнанными являются роль и значение чрезвычайных мер. Среди них наряду с насилием и принуждением не менее важное значение отводится феномену социальной мобилизации. Мобилизация из способа решения и преодоления экстремальных, экстраординарных проблем / вызовов преобразовалась в систему, стала фундаментальной характеристикой политических режимов мобилизационного типа. Понятие «мобилизационный» выступает в исторических исследованиях синонимом «тоталитарного», и наоборот. Так, крупнейший отечественный специалист в данной области О. В. Хлевнюк отмечает: «Вырастая из хаоса революционных поворотов и скачков, диктатура опиралась преимущественно на насилие и стремилась (во многих случаях искусственно) поддерживать чрезвычайный, мобилизационный режим функционирования политической системы и жизни общества» [2010. С. 447].
Свою позицию в понимании термина «тоталитаризм» как основного маркера для сталинского режима высказывает западный исследователь Дж. Кип. По его мнению, познавательные возможности тоталитарной парадигмы отнюдь не исчерпаны в случае корректного ее использования. Он предложил рассмотреть применимость термина при анализе трех измерений сталинизма: устремления правящей партии и цели переделки образа жизни и мировоззрения всех граждан (идеологическое измерение); система власти (институциональное измерение); контроль над обществом (поведенческое измерение). Дж. Кип считает, что наиболее полно тоталитарность проявляется в идеологии, с оговорками: она приложима к анализу функционирования сталинского режима и «только до определенной степени» работает при изучении управленческого воздействия на социум [Кип, Литвин, 2009. С. 25]. Конкретизируя феномен контроля над обществом, Кип отмечает основные формы его проявления: «“командная экономика”, массовая мобилизация населения для участия в кампаниях, цели которых намечены сверху; разветвленный, всеобъемлющий
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-01-00506а).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 10: История © С. А. Красильников, 2011
агитпроп; фанатичная политизация культуры, науки и образования; запрет автономной гражданской деятельности; усердные попытки искоренить религиозные и национальные различия». В то же время он указывает на наличие серьезных трудностей и ограничений, которые сдерживали тотальный контроль над поведением различных групп населения [Кип, Литвин, 2009. С. 25].
Подходы западной историографии корреспондируют с поисками отечественных ученых в данной предметной области. Среди новейших публикаций выделим аналитический обзор работ, вышедших в серии «История сталинизма», выполненный А. Н. Медушевским. Им предпринята новаторская попытка перевести дискуссию о сталинизме в систему понятий когнитивноинформационного метода. Сталинизм в его интерпретации – это «система, тяготеющая к установлению максимального контроля над информацией в интересах направленного манипулирования человеческими ресурсами». Тем самым в центре анализа оказываются механизмы формирования и динамики информационной картины мира; масштабы, параметры и цели социального конструирования, в особенности конструирования идентичности; социальная адаптация и рычаги управления мотивацией поведения; тотальность контроля и границы социального регулирования. А. Н. Меду-шевский отмечает активную роль и значение мобилизационных технологий в функционировании сталинской системы. По его оценке, создание новой информационной картины мира осуществлялось путем «внедрения мобилизационной идеологии, способной контролировать не только социальные, но и когнитивные параметры мотивации человеческого поведения», в свою очередь «социальная мобилизация (и, особенно, манипуляция) возможна только при информационном доминировании тех сил, которые ее осуществляют». Мобилизационный фактор, по Медушевскому, выступает и одной из фундаментальных основ сталинской экономики, которую он маркирует как «мобилизационная / мобилизационно-распределительная экономика» [2010. С. 3–26]. Размышления Медушев-ского очевидным образом имеют точки соприкосновения с позициями Дж. Кипа.
Как видим, и отечественные и западные историки сталинизма придают особое зна- чение мобилизационному феномену, без чего невозможно исследование самой природы тоталитаризма. Но именно это обстоятельство требует определения границ понятия «социальная мобилизация» (СМ) и его операционализации применительно к задачам конкретно-исторического исследования.
В социально-гуманитарной исследовательской литературе мобилизационный феномен, как правило, трактуется в политическом аспекте (действия власти), которому противопоставляются действия, связанные с так называемой самомобилизацией индивидов и групп, основанной на принципах инициативы, добровольности. Для сталинского периода мы считаем возможным применять широкое понятие «социальная мобилизация» как вбирающее в себя и акции власти и вовлечение в них слоев и страт социума.
Под категорией «социальная мобилизация» (СМ) понимается целенаправленное директивное воздействие институтов власти на массы, основанное на подавлении или искажении свободных и рациональных предпочтений, мотиваций и действий отдельных индивидов и групп для приведения социума в активное состояние, обеспечивающее поддержку и реализацию целей и задач, объявляемых приоритетными и признаваемых общественным большинством. Социальная мобилизация позволяет власти сконцентрировать максимум ресурсов и возможностей общества на выполнении провозглашенных целей всеми имеющимися в распоряжении институтов власти средствами. Учитывая обязательную вовлеченность населения и его сопричастность к действиям власти, допустимо утверждать, что социальная мобилизация – это деформированный, искаженный и фальсифицированный вариант модели общественного договора / согласия западного типа в его советско-сталинском варианте.
В нашем исследовании мы исходим из того, что политическое устройство постреволюционной России (далее Советского Союза) было представлено бюрократическим (тоталитарным) режимом, являвшимся идеократическим (с опорой на светскую идеологию) и мобилизационным по способу своего существования, надстроенным над конгломератом различных, преимущественно докапиталистических, социально-экономических укладов и мозаичной социальной
(сословно-классовой) структурой. Необходимая устойчивость этого политического устройства достигалась за счет применения в отношениях с социумом (народом, населением) технологий социальной мобилизации.
В профессиональном российском историческом сообществе традиций исследования социальной мобилизации в полной мере пока не сложилось, на что есть ряд причин как объективного, так и субъективного порядка. Прежде всего анализ затруднен некоторой размытостью самого предметного поля, поскольку феномен мобилизации применительно к советской эпохе выглядит многоликим и всеобъемлющим и в институциональных, и в атрибутивных социальных проявлениях. Практически вся технология власти пронизана мобилизационными установками и практиками. Если обратиться к сфере советской идеолого-пропагандистской деятельности, то здесь их ядром выступали, выражаясь современной терминологией, политтехнологи мобилизационного типа. Сказанное применимо к любой из сфер жизнедеятельности советского общества (политика, экономика, культура, социальные взаимодействия). Сложность работы историка состоит в том, чтобы научный инструментарий социальных наук адекватным образом адаптировать к задачам собственно исторического исследования. Необходимо принимать в расчет и тот факт, что эмпирический, документальный и нарративный материал построен на языковом фундаменте сталинской эпохи - на так называемом новоязе, или, по определению английского писателя Дж. Оруэлла, официальном языке, призванном обслуживать государственную социалистическую идеологию [1989. С. 233-243].
Современное историко-политическое исследование феномена СМ базируется на применении общенаучного, системного подхода, согласно которому взаимодействие происходит в рамках системы «политическая власть - социум». Внутри этой системы институты власти выступают субъектами / акторами действия, а социум в целом или конкретные его целевые группы - объектами мобилизационного воздействия. При этом данный процесс приобретал различную степень глубины и результативности управленческого воздействия, где в каждом случае «вертикаль власти» имела конкретные возможности в реализации своих целей. При таком подходе исследователи в качестве приоритетов выдвигают действия политических акторов, более внимательно исследуя технологию мобилизационного воздействия на целевые объекты и корректировку исполнения директив в зависимости от поведения слоев и групп самого общества.
В социально-исторических работах мобилизационный феномен также рассматривается в границах модели «социум -власть», но здесь приоритет очевидным образом смещается в сторону рассмотрения событий с позиций интересов и потребностей социума, мотивации поведения (участия - неучастия) отдельных групп и страт в мобилизационных мероприятиях власти. Тем самым акцентируется внимание на выявлении сложных механизмов социальнополитических, психологических и других массовых и групповых реакций общества на управленческие воздействия, рассматриваются препятствия и барьеры, границы и пределы возможностей этого воздействия, равно как и возможности для социума отстаивать свои интересы или адаптировать их к мобилизационным условиям. В данных исследованиях особое внимание уделяется изучению связи и взаимодействия СМ с фундаментальными процессами социальной мобильности, где мобилизации самым непосредственным образом выступают в качестве составной части инициированных «сверху» миграций (и добровольных, и принудительных), причиной избыточной маргинальности и т. д.
Рассмотрим некоторые подходы, принципы и реальные результаты изучения сталинского варианта в новейшей историографии. СМ могут быть структурированы и в дальнейшем научно описаны по таким основаниям, как:
-
• целенаправленность конфронтационная или консолидационная; управляемая и направляемая активность; соучастие и сопричастность «низов»; дискриминация и изоляция «врагов» и т. д.;
-
• объектность , т. е. действия в отношении слоев, страт социума, каковыми выступают базисные (рабочие - крестьяне -интеллигенция / служащие), лидерные (элита, управленческие кадры / номенклатура) и маргинальные («натуральные» маргиналы, социальные маргиналы, политические маргиналы) группы;
-
• виды (военные, социально-трудовые, кадровые, идеолого-пропагандистские);
-
• характеристики (институциональ-ность, интенсивность директивность, всеох-ватность, агрессивность и т. д.);
-
• уровни (вертикаль - горизонталь; Центр - периферия);
-
• функции (контрольно-надзорная, стратификационная, дискриминационно-репрессивная и др.).
Как отмечалось выше, мобилизации - это использование всего потенциала населения с перспективой удержания и даже возможного расширения ресурсного обеспечения действий / программ власти. Мобилизация -это превращение потенциала в ресурс, в реальное действие. В процессе мобилизации происходит сочетание начал добровольности, осознанности, согласия с элементами вынужденного участия / соучастия и применением принуждения / насилия. Практически во всех мобилизационных кампаниях (а именно они выступают базовым «мобэ-лементом») присутствуют все три мотивационные и поведенческие позиции: активизм - конформизм - сопротивление. Это делает необходимым внесение в модель кампаний компонента дихотомии (мы - они, свои - чужие). Именно по наличию элементов конфронтации и консолидации можно судить о характере самой мобилизации и ее органичности или чрезвычайности. Так, в массовых социально-трудовых мобилизациях масштабы противодействия тесно связаны с интенсивностью принуждения; здесь также присутствует поведенческий конформизм. В кампании по отправке рабочих в деревню (25-тысячники) доминировали (по разным причинам) активизм и добровольное начало, однако прослеживался мотивационный, а затем и поведенческий конформизм [Троценко, 2011].
Другой важной исследовательской задачей служит изучение фактора социальной мобильности в мобилизационных процессах. Целью одних кампаний являлись достижение мобильности и смена статусов (выдвиженцы, 25-тысячники и т. д.); функции других сводились к перераспределению (так называемой переброске специалистов или управленцев). О значении фактора смены и закрепления статусов свидетельствует то обстоятельство, что мобилизованные группы становились на определенное время социально-учетными группами (те же выдви- женцы, «парттысячники» и т. д.). Особое место занимали мобилизационные действия, направленные на снижение и утрату статусов в ходе репрессивно-дискриминационных кампаний. Здесь имела место более масштабная переполюсовка статусов, в ходе которой происходило статусное уничтожение одних страт (маргинальность) и возгонка других («низы»).
В рамках изучения мобилизационного феномена в настоящее время наиболее интенсивно исследуется сегмент идеологопропагандистских кампаний. Это связано с рядом обстоятельств, в том числе с тем, что данные кампании являются универсальной основой мобилизационных технологий в идеократических тоталитарных системах. Кампании указанного типа, помимо того что они встроены в любую государственную акцию, сопровождая и обеспечивая ее, обладают функцией прямого воздействия на массовое общественное сознание, способствуя формированию и изменению стереотипов и установок, его составляющих.
Отметим прежде всего работы С. Н. Ушаковой, последовательно и многосторонне изучающей идеолого-пропагандистские кампании как базовый элемент, универсальный способ социальной мобилизации 1920-1940-х гг. [2001; 2009]. На разнообразном конкретно-историческом материале ею проверена рабочая гипотеза о том, что в зависимости от исторического контекста и приоритетов политического руководства страны мобилизация приобретала форму либо конфликтной, либо позитивной консолидации. Первая из названных характерна для периодов ужесточения режима, применения чрезвычайных мер (рубеж 1920-1930-х гг., «Большой Террор»). Вторая мобилизационная модель активно применялась в середине 1930-х гг., когда власть стремилась консолидировать социум на основе создания «новых» ценностей (стахановское движение, обсуждение и принятие Конституции). В то же время исследование показало, что такое разделение не носило абсолютного характера. В каждой из кампаний, хотя и в разных сочетаниях, присутствовали оба фактора: в позитивной мобилизации проявлялись элементы конфронтационности, а дихотомия «мы - они» доминировала во всех кампаниях. Принципиально важным стал вывод о неспособности сталинской власти контролировать и консолидировать общество на позитивной основе; существование мобилизационных режимов требовало постоянного поддержания в социуме атмосферы противостояния и конфликтов, что свидетельствовало о непрочности режимов в длительной перспективе [Ушакова, 2009. С. 236– 237].
Свое развитие тезис о существовании и взаимодействии в мобилизационных воздействиях двух компонентов – конфронтационного и позитивного – получил в цикле работ Н. Б. Арнаутова, посвященных формированию и функционированию образа «врага народа» в системе советской социальной мобилизации кануна и периода «Большого Террора». Автор показал, что формирование в массовом сознании картины мира, опиравшееся на бинарные конструкции типа «мы – они», наряду с актуализацией образа «врага» сопровождалось интенсивным созданием своеобразного советского пантеона «героев» – людей-символов. Среди последних центральное место отводилось образу «вождя» – ключевому элементу кампаний консолидационного типа 1930-х гг. Они же, в свою очередь, ложились в фундамент идеологической концепции патернализма («вождь» как «отец народа»). Проведенное Н. Б. Арнаутовым исследование пропагандистских кампаний обоих типов позволило на новом эмпирическом материале подтвердить вывод об их сложном переплетении и преобладании в пропаганде этого периода конфронтационного компонента в государственном терроре. При этом очевидная конфликтность двух пропагандистских установок на практике вела к закреплению в обществе позиций партийно-государственного патернализма как фундаментальной ценности, обеспечивавшей как «борьбу за…», так и «борьбу против…» Н. Б. Арнаутов обосновал положение о прагматических функциях образа «врага народа» в сталинской политике: стратификационной (выделение в социуме «враждебных» социально-учетных групп и «приписывание» к ним персон) и контрольной (контроль над деятельностью и поведением различных категорий социума) [2010. С. 12].
Свой ракурс в исследовании мобилизационной проблематики нашла О. В. Шер. В центре сделанного ею анализа – социально-трудовые мобилизации периода первой пятилетки, где институты власти выступали субъектами действия, а корпорация технических специалистов (ИТР) – объектом мобилизационного воздействия. Ею обосновано положение о том, что трудовые мобилизации специалистов на «ударные стройки и объекты» являлись не просто средством решения задачи перераспределения квалифицированных кадров для отраслей экономики в условиях острейшего их дефицита. Сама эффективность кампаний оказывалась невысокой (значительная текучесть кадров, их слабая закрепляемость на новых местах работы и т. д.), однако непрерывность проведения кампаний свидетельствовала о наличии другой, не менее приоритетной причины – добиться изменения системы мотивации труда специалистов и достижения их большей управляемости и подконтрольности. В исследовании на эмпирическом материале доказано, что «кампании по мобилизации специалистов вкупе с другими мероприятиями социальномобилизационного процесса сыграли свою роль в трансформации технической интеллигенции в управляемую и контролируемую государством ресурсно-трудовую учетную группу» [Шер, 2009. С. 15].
Среди работ последнего десятилетия в области мобилизационной тематики, расширяющих ее границы, следует выделить исследование немецкого историка М. Рольфа, посвященное феномену праздничной культуры. Он убедительно показал триединую функцию праздников (инсценировка, мобилизации и контроль) в тоталитарных системах [2009]. Как и большинство современных западных историков сталинизма, М. Рольф исходит из оценки режима как тоталитарного, наделяя его такими характеристиками, как «пропагандистское государство» и «инсценирующая диктатура» [Там же. С. 7, 11]. Отводя режиму доминирующую роль в системе социальных взаимодействий, он справедливо отмечает, что некогда привычная для исследователей дихотомия «власть – общество» оказывается весьма уязвимой в силу ряда причин: невозможность определить границы «общества»; реализованные установки оказывались нетождественны целям; эффективность властных дискурсов имела свои пределы, поскольку существовали не советизированные коммуникационные пространства, куда не проникали предписания и контроль власти, и т. д. [Там же. С. 28–29]. Несомненной заслугой
М. Рольфа стало включение феномена советского праздника в широкий событийный контекст в качестве инструмента легитимации властных структур и средства интеграции различных групп социума в рамки официального канона. В своем исследовании М. Рольф убедительно показал, что советский праздник «годился как для демонстрации мобилизационных возможностей режима, так и для выполнения задач перевоспитания людей в качестве “внеклассной школы”» [2009. С. 256].
Среди новейших отечественных исследований о природе и механизмах сталинской диктатуры особое место занимает упоминавшаяся выше монография О. В. Хлев-нюка. В ней приводятся примеры всевозможных мобилизационных действий власти, этому посвящен и отдельный подраздел главы о «Большом Терроре», названный «Мобилизация “бдительности”», где рассматривается кампания пропагандистского сопровождения реальных репрессий. Соединение террора и пропаганды в практике тоталитарных режимов вызывает особый интерес исследователей, являясь одновременно и полем дискуссий о масштабах соучастия масс в террористических акциях власти. Называя такие черты мобилизационной кампании, как интенсивность и агрессивность, исследователь отмечает ее особое целевое назначение в подаче репрессий против номенклатуры как своеобразной антибюрократической революции, призванной «защитить» народ от произвола переродившихся управленцев, что существенно повышало эффективность пропагандистского воздействия на «низы» при проведении так называемых показательных процессов в центре и особенно в провинции [Хлевнюк, 2010. С. 323–327]. В какой мере массовая поддержка и активизм в форме «сигналов общественности» (доносы) влияли на динамику репрессий? О. В. Хлевнюк считает, что данные «сигналы» были фактором ограниченного действия, принципиально не влиявшим на действия репрессивной машины [Там же. С. 337]. Историк убедительно показывает, что в сформировавшейся системе власти И. В. Сталин занимал ключевое положение – центрального субъекта мобилизационных импульсов, санкционируя, дозируя и направляя все основные кампании, как репрессивные, так и консолидационные. При этом О. В. Хлевнюк подчеркивает осо- бую природу и характер консолидации масс вокруг институтов диктатуры, закавычивая термин и сопровождая его определением «насильственная» [Там же. С. 348].
Схожие суждения высказывает в своем обзоре А. Н. Медушевский, по мнению которого модель сталинского взаимодействия власти и общества, поддерживавшаяся принуждением, т. е. механистическим путем, не могла быть развивающейся, ибо не содержала внутренних стимулов развития. Говоря о глубинных основаниях тоталитарной системы как таковой, он, приводя позицию Ф. Хайека, замечает, что «система была выстроена для войны, а не для мира в обществе потребления и имела поэтому другой тип рациональности и мотивации» [Медушев-ский, 2010. С. 23].
И здесь как нельзя актуальными для исследователей представляются размышления о природе тоталитарных режимов в выдающемся произведении Дж. Оруэлла «1984», где в блестящей литературной форме раскрываются механизмы установления и поддержания господства в таких системах; где грани между привычными и устоявшимися понятиями «война» и «мир» стираются, а режимы применяют мобилизационные приемы для упрочения собственной гегемонии. Война (а чаще ее угроза) меняет свой привычный характер (завоевательный или оборонительный) и становится всеобъемлющим многофункциональным фактором воздействия на массы. В одном своем измерении «это – обдуманная политика: держать даже привилегированные слои на грани лишений, ибо общая скудость повышает значение мелких привилегий и тем увеличивает различия между одной группой и другой» [Оруэлл, 1989. С. 150]. В другом аспекте «это – социальная атмосфера осажденного города, где разница между богатством и нищетой заключается в обладании куском конины. Одновременно благодаря ощущению войны, а следовательно, опасности, передача всей власти маленькой верхушке представляется естественным, необходимым условием выживания» [Там же]. При этом, по Оруэллу, принципиально важно и то, что война формирует и поддерживает особое моральное состояние члена тоталитарной партии: «…его менталитет должен соответствовать состоянию войны. Не важно, идет ли война на самом деле… Нужно одно: находиться в состоянии войны» [Там же.
С. 150–151]. И далее Оруэлл делает основное заключение о новой функции войны для тоталитарных режимов: «Она пожирает излишки благ и позволяет поддерживать особую душевную атмосферу, в которой нуждается иерархическое общество. Ныне, как нетрудно увидеть, война – дело чисто внутреннее… Войну ведет правящая группа против своих подданных, и цель войны – не избежать захвата своей территории, а сохранить общественный строй» [1989. С. 156]. Тем самым и здесь оруэлловская модель становится рабочей, есть достаточно оснований считать, что сталинизм, будучи режимом военно-мобилизационного типа, существовал и воспроизводился благодаря технологиям превращения, перевода войны из геополитического события в плоскость непрерывного, поддерживаемого в структурах власти и обществе в целом мобилизационного состояния.
Один из центральных выводов, сделанных О. В. Хлевнюком, гласит, что реальный сталинизм был избыточно репрессивным [2010. С. 463]. Равным образом можно считать данный режим и избыточно мобилизационным. Будучи результативными в краткосрочном формате осуществления той или иной кампании, достижения конкретных целей, социальные мобилизации из средства преодоления кризисных ситуаций становились причиной новых, нередко еще более глубоких и системных кризисов институтов власти и социума в целом.
STALIN’S MODEL OF SOCIAL MOBILIZATION: SOME PROBLEMS OF STUDYING