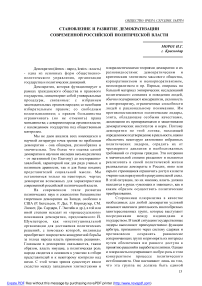Становление и развитие демократизации современной российской политической власти
Автор: Мороз К.Г.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Общество: вчера, сегодня, завтра
Статья в выпуске: 2, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14932541
IDR: 14932541
Текст статьи Становление и развитие демократизации современной российской политической власти
Демократия (demos - народ, kratos - власть) - одна из основных форм общественнополитического управления, организации государства и политических движений.
Демократия, которая функционирует в рамках гражданского общества и правового государства, олицетворяет собой универсальные процедуры, связанные: с избранием законодательных органов народом; со всеобщим избирательным правом; со свободным волеизъявлением; с правом большинства ограничивать (но не отменять) права меньшинства; с доверием народа органам власти; с нахождением государства под общественным контролем.
Мы не даем анализа всех имеющихся в научной литературе точек зрения по проблемам демократии - она обширна, разнообразна и значительна. Тем более что оценка самой демократии в научном наследии весьма различна - от негативной (по Платону) до восторженнохвалебной, характерной как для ряда ученых и политиков древности, так и для более поздних представителей социальной мысли. Мы остановимся только на некоторых чертах демократии возможных для характеристики современной российской политической власти.
На современном этапе развития политических наук и социологии большинство теоретиков демократии на Западе, особенно в США (Р. Бетельсон, Р. Дал, У. Корнхаузер, СМ. Липсет, Дж. Сардари, Г. Экстейн и др.), в той или иной степени исходят из «процессуального» понимания демократии, предложенного Й. Шумпетером, как «институциональной организации для достижения политических решений, с помощью которой, индивиды приобретают посредством конкурентной борьбы за голоса народа власть принимать решения». Главными в демократии оказываются, таким образом, власть имущие, а политическая роль народа сводится в основном к участию в отборе представителей и к некоторому контролю над ними. С этой точки зрения существует явное сходство между западными элитистскими и плюралистическими теориями демократии и их разновидностями: демократическим и критическим элитизмом массового общества, корпоративизмом и неокорпоративизмом, неоплюрализмом и пр. Первые, опираясь на большой материал эмпирических исследований политического сознания и поведения людей, обычно подчеркивают консерватизм, склонность к авторитаризму, ограниченные способности людей к рациональному пониманию. Им противопоставляются политические лидеры, элита, обладающие особыми качествами, делающими их приверженцами и защитниками демократических институтов и норм. Поэтому демократии по этой логике, находящей определенное подтверждение в реальности, важно обеспечить некоторую автономию избранных политических лидеров, оградить их от чрезмерного давления и необоснованных требований со стороны граждан. Эти воззрения в значительной степени разделяют и пытаются реализовать в своей политической жизни радикальные демократы в России, явно или скрыто стремящиеся ограничить доступ к власти «черни» как неразумной и разрушительной силы. В этой ситуации, по их мнению, власть должна находится в руках «умеющих и знающих», как и каким образом осуществить политические преобразования.
Сторонники плюрализма в качестве необходимых для любой демократии условий называют наличие и деятельность многообразных заинтересованных групп, которые выступают посредниками между индивидами и государством. В такой ситуации государственные лидеры выполняют преимущественно функции арбитра, призванного через систему сдержек и противовесов сохранять равновесие соперничающих групп и примирять их интересы путем обеспечения им равного доступа к принятию решений и выработке политики. Однако и плюралисты подчеркивают особую роль в этом конкурентном процессе политического истэблишмента. Они настаивают лишь на том, что эта группа не должна быть единой
(монолитной) и открытой для влияния снизу. Все это дало серьезное основание К. Пейтман в ее получившем широкое признание исследовании демократии сделать следующий вывод: «...в современной теории демократии решающим является участие меньшинства - элиты, а неучастие апатичного рядового человека, испытывающего чувство политического бессилия, рассматривается в качестве главного бастиона против нестабильности».
Вместе с тем, под влиянием молодежного и студенческого движения 60-х гг., а также теоретиков «новых левых» на Западе формируется концепция демократии участия (или партиципаторной демократии). Этим уже изначально определяется ее леволиберальная или социал-демократическая направленность. Критикуя представительную демократию как фактически элитистскую, «новые левые» настаивают на неотъемлемом праве граждан участвовать, в том числе на самоуправленческих началах, не только в «символической политике», но и в фактическом принятии решений в политической и других сферах общества. Стремительный рост интереса к политическому участию в западных обществах связан с усложнением социально-профессиональной структуры, появлением новых интересов и требований, увеличением свободного времени, повышением культурного уровня населения. В этих условиях все более значимым для личности становится чувство самоуважения, возможность реализации своих этических и интеллектуальных способностей, потребность в гражданской активности.
Сторонники «демократии» участия выдвинули требование разрушить барьеры между рядовым гражданином и избранным депутатом, должностным лицом, политическим лидером. Это возможно, по их мнению, путем децентрализации процесса принятия решений и прямого вовлечения в этот процесс рядового гражданина. Наиболее радикальные из них, солидаризируясь по существу с идеями анархизма, считают, что необходимо ликвидировать представительство как политический принцип и институт, создав самоуправленческие общности (общины), в которых каждый индивид получает возможность прямого, безотлагательного и равного участия в решении всех вопросов жизни этой общности и объединяющего их национального сообщества. Однако большинство сторонников «демократии участия» выступают за сочетание прямой и пред- ставительной формы демократии. Возможности прямой демократии ограничиваются в основном областью местного управления в какой-то мере производственной демократии.
В современной России проблемы демократии стали предметом большого и противоречивого интереса. Самая общая характеристика состояния и тенденций развития демократии состоит в том, что представления о ней в конце 80-х гг. стали одним из мощных средств, приведших к отвержению советского строя, к отказу от его поддержки и защиты. Именно с конца 80-х - начала 90-х гг. демократия в политическом сознании людей олицетворяла самое лучшее, самое передовое, более того, самую желанную форму политической власти, с которой были связаны надежды, светлые ожидания. Под влиянием экономических, политических и социальных реалий оценки демократии в середине и во второй половине 90х гг. резко ухудшились, ибо значительная часть населения разочаровалась, отвергла и даже отказалась от реальностей российской демократии как формы политического существования российского общества и государства.
В целом демократическая форма политического правления переживает кризис и находится в интенсивном поиске, как концептуальности своего построения, так и прикладных форм ее реализации. Сегодня, возможно, актуально как никогда утверждение одного из видных деятелей западноевропейской социал-демократии Э. Бернштейна, что «демократия есть высшая школа компромисса».
Политическая жизнь представляет особую форму реализации интересов государства, партий и объединений, классов, наций, социальных групп, добровольных организаций и людей по сознательному использованию власти, удовлетворению и достижению политических целей, определению ориентации, мотивов, установок. Политическая жизнь находит свое четкое выражение во властных отношениях, которые всегда направлены на защиту, закрепление и развитие достигнутых позиций, создание новых предпосылок для дальнейшего упрочения существующей власти.
В этой ситуации политическое сознание человека, его гражданская позиция, его отношение к власть предержащим как бы остаются на втором, а то и на третьем плане. Но такой неучет действия субъективного фактора ведет к нарушению процесса функционирования любого политического строя и прежде всего государства. Подобное отношение к субъективному фактору мощно «мстит» за себя, оборачивается социальными конфликтами, катастрофами, волнениями, революциями. Именно поэтому проблемы взаимосвязи человека и власти приобретают огромное как научное, так и политическое значение.
А какова же реальность? Главным носителем властных отношений является государство. Оно в лице конкретных органов в центре и в регионах выступает (или должно выступать) основным субъектом властвования, который определяет главные направления развития политических и правовых отношений. От его способности рационально, своевременно и эффективно обеспечивать взаимодействие между различными экономическими, социальными и культурными институтами, согласовывать интересы всех субъектов политической жизни зависит динамизм общественных процессов.
Но особую проблему представляет взаимодействие государства с человеком, а точнее говоря, человека с государством. В принципе это проблема обратной связи, ибо только ее наличие и постоянное совершенствование обеспечивают жизнеспособность политических структур. Исходя из этого, знание настроений, тенденций их изменения, форм взаимодействия и способов привлечения людей к решению общественных проблем и составляет суть социологической интерпретации взаимодействия человека с государством. Для социальной философии большое значение имеет структурирование властных отношений, олицетворяемых государством.
Наиболее часто употребляемой классификацией, применяемой в социальных науках, является разделение форм осуществления власти: законодательной, исполнительной и судебной. Деформация или искажение их взаимодействия в немалой степени способствует произволу, огульному решению дел и на этой основе попранию прав и свобод человека. При реализации этих принципов организации власти создаются предпосылки и условия для политического творчества людей. Именно с этих позиций подвергалась критике структура построения советских органов власти, в которой исполнительные функции тесно переплетались с законодательными, представительными.
Принцип разделения властей, отражая единство власти, тесно увязан с адресной ответственностью за исполнение этих функций. И тут уж дело технологии - отвечают ли за исполнение тех или иных функций одно или несколько лиц, один или несколько институтов (известно, что в ряде стран и в разные эпохи исполнение, например, законодательных, исполнительных и судебных функций совмещалось). Важно и принципиально, чтобы всегда было юридически ясно - за какую функцию, в какой момент и кто может быть спрошен по всей строгости закона.
В этой связи следует остановиться на знаменитейшей римской юридической максиме: «властвуй разделяя». Это положение трактовалось и нередко трактуется в том смысле, что успешное управление предполагает насилие (т. е. «правитель - разъединяй, стравливай подвластных»). На самом же деле имеется в виду совершенно противоположное - успешное управление основано на различении (divide - суд, различение) и только в этом смысле разделении тех, кем управляешь (т. е. «правитель - познай, согласовывай интересы подданных; познай, различи собственные властные способности и функции»).
Другим основанием для типологизации политической власти является известное положение М. Вебера о трех типах господства: традиционном, легитимном, харизматическом. Такое деление скорее дает представление о характере власти, чем о ее сущности. Ведь харизма может проявиться и в демократическом, и в автократическом лидере, и в традиционном. На наш взгляд, при всей привлекательности такой постановки вопроса данный подход очень трудно использовать в конкретном социологическом исследовании. Он характеризует скорее некоторый логический вывод, является предметом абстрагирования существующей практики. Это тем более показательно, что в реальной жизни в чистом виде невозможно найти данные типы господства: они обычно одновременно представлены практически во всех политических режимах. Весь вопрос состоит в степени, уровне их воплощения в конкретном анализируемом типе политической власти. Вот почему при характеристике российского государства в зависимости от политических позиций аналитика находят и черты традиционализма, что отражается в следовании принципам функционирования советской системы, и черты легитимности, проявляющиеся в формировании правового государства, и в феномене харизмы, который нашел воплощение в первые годы деятельности первого президента России.
Еще один подход к типологизации политической власти проявляется в рассмотрении властных полномочий на взаимодействующих уровнях: федеральном, региональном и местном. Анализ политологической и социологической информации показывает, что между этими уровнями - макро-, мезо- и микроуровнем -сложилось определенное противостояние, которое связано с перераспределением властных полномочий, ответственностью за рациональную организацию производственной, общественной и личной жизни граждан, с возможностью финансового обеспечения осуществляемых социальных программ и мероприятий.
Кроме того, в научной литературе существует множество попыток классифицировать формы и типы власти: институциональные и неинституциональные; по функциям; по объему прерогатив; по методам и т. д.
Мы хотим обратить внимание на одно очень важное деление, которое можно осуществить, анализируя структуру и деятельность правящего субъекта. Оно основано на оценке характера и качества власти, на степени соучастия населения в ее осуществлении, на полноте представительства интересов самых различных социальных групп.
С точки зрения социальной философии, это очень продуктивный подход, который позволяет выявить сущность и специфику взаимоотношений государства и общества с гражданами страны, что выявляет реальное содержание и качественные характеристики различных политических режимов. В этой связи хочется сказать, что в научной литературе появилось много «кратий», которые характеризуют не только закономерные, но и экзотические, да и просто случайные изыски на эту тему. Так, профессор В.Ф. Халипов насчитывает 60 «кратий», вплоть до фаллократий, что можно отнести к экзотическим попыткам описать явления, которые имелись в жизни отдельных народов. Но увлечение перечислением всех возможных «кратий» может лишь внести сумятицу и сумбур в представление об общественной жизни отдельных народов, ибо их с большой натяжкой можно отнести к рассматриваемым проблемам политической власти.
И, наконец, в современной политической системе многое делается для определения уровня политической стабильности в той или иной стране. Как резонно замечает по этому поводу американский политолог Р. Грин, управляющие и менеджеры компаний, разместивших свои капиталы в других странах, должны следить за политическим климатом этих стран, учитывать уровень политической стабильности и в случае необходимости принимать соответствующие меры «для защиты своих интересов». По его мнению, изменения в политической системе, вызываемые революциями, всегда имеют «серьезные последствия для интересов иностранного бизнеса и капитала».
Следует только отметить, что исследование политического поведения людей как универсальная характеристика качества политики создает принципиальную возможность для ответа на классические вопросы: кто, где, когда, почему, с какой целью, в какой форме и с какими результатами принимал участие в политике? Достоинство этого подхода, который не отрицает, а дополняет другие, состоит не только в его всеобщности, но и открытости для эмпирических исследований. Сегодня, когда сломаны многие барьеры между Россией и Западом, созданы предпосылки для выявления действительного сходства и реального различия наших быстро изменяющихся обществ. Учитывая существенные культурно-исторические и политико-институциональные различия, задача эта непростая, но, как показывает опыт, разрешимая. Подобно тому, как различные группы граждан имеют неодинаковые ресурсы политического участия (образование, свободное время, деньги, членство в партии, должность в политико-государственной иерархии, связи и др.), различные общества имеют неодинаковые условия и традиции для этого участия. Как показывает анализ политического участия граждан в жизни государства (см. работы Е.Г. Андрющенко, В.Э. Бойкова, B.C. Комаровского, В.В. Лапаевой, Ю.А. Левады, Е.А. Лукашевой, М.К. Горшкова и др.), среди них в среднем лишь 4-5% высокоактивны. На эту активность, несомненно, влияют различия в уровне экономического развития или уровне жизни, с которыми нужно считаться. Поэтому одна из основных задач политической социологии, как и других наук, - помогать гражданам узнать с максимальной полнотой и достоверностью, что и как надо сделать, чтобы выбор был осознанным.