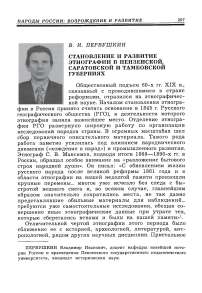Становление и развитие этнографии в Пензенской, Саратовской и Тамбовской губерниях
Автор: Первушкин В.И.
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Народы России: возрождение и развитие
Статья в выпуске: 4 (57), 2006 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется процесс становления этнографии в российской провинции. Показана ведущая роль Русского географического общества, Общества естествознания, антропологии и этнографии, Московского археологического общества и губернских комитетов по статистике в зарождении этнографических знаний. Подчеркивается вклад профессиональных этнографов 2-й половины XIX века в формирование этнографических знаний в российской провинции.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222964
IDR: 147222964
Текст научной статьи Становление и развитие этнографии в Пензенской, Саратовской и Тамбовской губерниях
Общественный подъем 60-х гг. XIX в., связанный с проводившимися в стране реформами, отразился на этнографической науке. Началом становления этногра фии в России принято считать основание в 1845 г. Русского географического общества (РГО), в деятельности которого этнография заняла важнейшее место. Отделение этнографии РГО развернуло широкую работу по организации исследований народов страны. В огромных масштабах шел сбор первичного описательного материала. Такого рода работа заметно усилилась под влиянием народнического движения («хождения в народ») и промышленного развития. Этнограф С. В. Максимов, подводя итоги 1860—1890-х гг. в России, обращал особое внимание на «разложение бытового строя народной души». Он писал: «С обновлением жизни русского народа после великой реформы 1861 года и в области этнографии на нашей недолгой памяти произошли крупные перемены... многое уже исчезло без следа с быстротой вешнего снега и, во всяком случае, главнейшим образом значительно сократились места, не так давно представлявшие обильные материалы для наблюдений... требуются уже самостоятельные исследования, обещав совершенно иные этнографические данные при утрате тех, которые сберегались веками и были на нашей памяти»1.
Отличительной чертой этнографии этого периода было сближение ее с историей, археологией, литературой, антропологией, рядом других научных дисциплин. Пристальное
ПЕРВУШКИН Владимир Иванович, доцент кафедры новейшей истории России и краеведения Пензенского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук.
внимание уделялось народному творчеству. Изучение культуры и быта населения имело важное значение для восстановления древнейшей истории народов России. Существенным представляется и смещение интереса образованного русского общества к жизни непривилегированных сословий: крестьян, духовенства, мещан, городских низов.
А. Н. Пыпин справедливо отмечал в «Истории русской этнографии», что собирание этнографического материала приняло в России 1860—1880-х гг. грандиозные размеры. Велика роль в развертывании этой работы Русского географического общества2
С самого возникновения РГО распространяло в провинции большое количество специализированных исследовательских программ (этнографических, статистических, географических), ориентирующих местных любителей на сбор научных сведений по определенной системе. Губернские статистические комитеты (ГСК) играли важную роль в организации этнографических исследований на местах. Этнографические материалы широко печатались в «Губернских ведомостях», «Памятных книжках», «Сборниках» и других изданиях статкомитетов. Авторами этих материалов были представители провинциальной интеллигенции. Значительная часть программ и вопросников РГО распространялась именно через губстаткомитеты.
В адрес РГО стало поступать со всех концов России огромное количество оригинальных статей и описаний в виде ответов на вопросники, обзоров и самостоятельных сочинений по истории и культуре родного края, в большинстве из них имелась значительная доля этнографического материала. Складывался своеобразный тип краеведческой работы со смешанным содержанием исторического, этнографического и статистического материалов на узколокальном материале (село, деревня, небольшой город, уезд).
В 1867 г. РГО рассылает по статкомитетам «Программу для собрания народных юридических обычаев», которая состояла из трех групп вопросов: гражданское право; уголовное право; общественный суд и расправа. Всего в анкете насчитывалось 56 вопросов. Ответы на нее давали развернутую картину уклада жизни того или иного населенного пункта3 Часть этих анкет, сохранившихся в фондах Русско- го географического общества, и по сей день служит источником для историков и этнографов.
В 70-х гг. XIX в. началась активная работа по изучению финно-угорских народов: мордвы, марийцев, удмуртов и др. В 1876 г. все губстаткомитеты получили циркуляр из Центрального статистического комитета (ЦСК), согласно которому они должны были помочь известному исследователю финно-угорских языков Д. П. Европеусу в сборе сведений о распространении финно-угорских народов в пределах России в древности. Для этого ему необходимо было собрать огромный топонимический материал по каждой губернии. ЦСК предлагал губстаткомитетам поддержать Д. П. Европеуса и собрать списки нужных географических названий. Они должны были сами решить «через волостные ли правления или при содействии сельских священников, учителей или других лиц, знакомых с краем, им действовать»4.
Таким образом, статистические комитеты не только организовывали распространение присылаемых им вопросников и программ в уездах губернии и пересылку материалов, но и активно участвовали в научно-исследовательском процессе, осваивая новые методики. Принципиально важно, что они выступали не просто поставщиками первичной фактической научной информации, но, публикуя массовый материал по истории, этнографии, археологии края, организовывали формирование Источниковых комплексов на местах.
Следует отметить, что программы и вопросники по определенной тематике совершенствовались и перерабатывались РГО на протяжении многих лет. Так, составленная в 1864 г. Н. В. Калачовым программа по сбору народных юридических обычаев была напечатана в шестом томе «Этнографического сборника» и «Губернских ведомостях» и, будучи разослана по России, дала очень интересный материал, сконцентрированный и опубликованный в столицах и на местах. В 70—80-е гг. XIX в. переработанные и дополненные новые варианты этой программы неоднократно рассылались по статистическим комитетам. С целью лучшего исследования всего комплекса проблем, связанных с этой тематикой, при отделении этнографии РГО была со- здана специальная Комиссия для сбора народных юридических обычаев.
Бытовая сторона жизни разных слоев общества в той или иной форме отражалась в многообразных статистических материалах. Так, например, в 1880 г. Саратовским губстаткомитетом разработана специальная программа «Для исследования отдельных местностей губернии», на осуществление которой были привлечены учащиеся Мариинского земледельческого училища, собиравшие историко-этнографические данные о своих селах5.
Важной чертой этнографической деятельности ГСК стало укрепление научных связей по горизонтали (между комитетами, обмен опытом работы). Уже с середины 70-х гг. XIX в. был налажен обмен научными программами. Так, например, в 1893 г. Пензенский губернский статистический комитет (ПГСК) для этнографического описания губернии использовал программу Харьковского статкомитета6 Секретарь Нижегородского статкомитета А. С. Гациский, ознакомившись с работами помощника председателя Саратовского статкомитета В. Г. Трирогова, предложил сообщить план и программы этого исследования активистам комитета «исходя из того положения, что... сложность программ и многочисленность их крайне полезны, так сказать, для сведения и руководства лицам, имеющим время и желание работать по отечествоведению»7
В целом научные интересы деятелей статистических комитетов в области этнографии, прежде всего, формировались ведущими научными обществами страны (отделением этнографии РГО), где эту работу возглавляли крупнейшие ученые России того времени. Академик В. И. Ламан-ский, много лет руководивший отделением этнографии РГО, в 80—90-е гг. XIX в. поставил перед последним задачи составления описания неславянских народов России с приложением этнографической карты, составления описания славянских народов, составления географии русского языка или обзора русской диалектологии, издания полного собрания великорусской народной лирики8.
В полном объеме эти задачи не были решены, но они нашли отражение в той или иной форме в деятельности ГСК. Велик вклад в постановку научно-этнографической деятельности в провинциальной России Н. И. Надеждина, академиков К. М. Бэра, Н. В. Калачова, Л. Н. Майкова, С. Ф. Ольденбурга, В. Ф. Миллера, А. А. Шахматова. Были близки провинциальным краеведам и взгляды на этнографию (характерные для РГО) историка Н. И. Костомарова (заместителя председателя отделения этнографии РГО в 1861—1866 гг., члена Саратовского ГСК), считавшего этнографию наукой о народе. По мнению ученого, этнограф должен быть историком современности9. Находясь в ссылке в Саратове, он собирал материал о местном фольклоре, писал монографию о домашней жизни и нравах русского народа в XVI—XVII вв. Вместе с А. Н. Пасхаловой-Мордовцевой организовал сбор и обработку народных песен, сказок и легенд, значительная часть которых опубликована в местной прессе, а в 1862 г. они изданы отдельной статьей10. Однако первыми историко-этнографическими работами в Саратовской губернии принято считать исследования А. Ф. Леопольдова о саратовской мордве11.
В Пензенском статкомитете одним из первых подобной работой занялся Н. В. Прозин. В статье «Город Красносло-бодск и Краснослободский уезд» он описывает мордовские села: Каньгуши на Мокше (ныне Ельниковский район Республики Мордовия), Кичатово и Волгапино (ныне Ковыл-кинский район Республики Мордовия), Базарная Дубровка (ныне Атюрьевский район Республики Мордовия).
В этом очерке не так много говорится о мордовском населении. Он лишь подчеркнул, что оно издавна имело близкие отношения с русским народом. В продолжение этой темы он публикует в нескольких номерах «Пензенских губернских ведомостей» в 1864—1866 гг. цикл статей «Картинки мордовского быта», где дается описание народного костюма, внешнего облика мужчин и женщин, устного народного творчества. Причем краевед одним из первых в российской этнографии показал, что «в числе мордовских песен находится большое число русских, но переиначенных как по выговору слов, так и по самой расстановке их»12. 27 октября 1865 г. Н. В. Прозин опубликовал в «Пензенских губернских ведомостях» большую статью «Простонародные песни Краснослободского уезда», по поводу которой современный мордовский фольклорист Л. С. Кавтаськин писал, что собранные там произведения «интересны не только своим глубоким содержанием и высокой художественностью, но и тем, что они в значительной мере установили влияние русской народной поэзии на мордовскую, один из важных факторов развития и обогащения всего мордовского творчества»13.
Член Тамбовского губернского статистического комитета И. И. Дубасов также стоял у истоков мордовской этнографии. В 1880 г. в «Тамбовских губернских ведомостях» он опубликовал «Историко-этнографический очерк о мордве, населяющей Тамбовскую губернию»14 Это направление научной деятельности краевед продолжил и в главном своем труде — «Очерках из истории Тамбовского края». В них уделяется большое внимание материальной и духовной культуре мордовского народа. Так, в главу «Тамбовская колонизация и ее деятели» включены легенда об основании г. Нижнего Новгорода и мордовская историческая песня, относящаяся ко времени Ивана Грозного15.
Отдельную главу «Миссионерство в Тамбовских пределах» И. И. Дубасов посвятил христианизации мордвы. В этом процессе автор видит лишь положительные моменты.
Этнографический аспект имелся и в деятельности Московского археологического общества (МАО). В списках вопросов, рассылаемых перед археологическими съездами в провинциальные центры, отражались вопросы русской колонизации, этнографии финно-угорских и других народов России, диалектологии, фольклора.
Помимо организации исследовательской и собирательской этнографической деятельности на местах ГСК стали также центрами пропаганды этнографических знаний во всех слоях общества. Наглядно это проявилось в их деятельности по подготовке научных выставок. Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ) стало инициатором интересной формы работы в России — публичных научных выставок. Значение этих выставок в том, что они знакомили с современной наукой провинциальных краеведов-любителей, стали полем исследовательской деятельности лучших ученых России того времени, обеспечивали междисциплинарные контакты. ОЛЕАЭ широко использовало правительственную поддержку, а в сбо- ре экспонатов и коллекций для выставок активно действовало через статкомитеты.
С течением времени менялись уровень этнографических работ, их проблематика, рос профессионализм местных авторов. Если в 60-е гг. XIX в. основную массу этнографических материалов составляли описания, созданные чаще всего по программам и вопросникам, то в 90-е гг. в провинции издаются уже специальные этнографические монографии. К ним можно отнести работу А. И. Троицкого «Народные песни Пензенской губернии». С помощью семинаристов он собрал свыше 200 песен16
Аналогичную работу осуществил и член Пензенского губернского статистического комитета священник Н. П. Барсов, известный собиратель мордовского фольклора. Записи мордовских песен были изданы под заголовком «Бытовые и исторические песни мордвы-мокши» в сборниках ПГСК (1895 г. и 1905 г.). Он поддерживал деловое сотрудничество с Финно-угорским обществом, куда был избран в 1892 г. за исследование «Образцы мордовских загадок»17
В какой-то мере итоговым для ПГСК можно считать «Краткий этнографо-статистический очерк Пензенской губернии». В нем приводились статистические сведения о народах, проживающих на территории губернии, об «инородцах» по уездам, перечислены татарские и мордовские селения как «без примеси русского населения», так и с «примесью»18
К концу XIX в. происходят изменения и в составе авторов этнографических работ. Если для 50—60-х гг. XIX в. наиболее характерной и массовой была фигура сельского приходского священника, автора «описания» родного села и уезда, то начиная с 90-х гг. XIX в. основную часть авторов местных исследовательских работ по этнографии составляли учителя, врачи, чиновники, юристы. Способствовало росту исследовательских навыков местных авторов и то, что этнографические работы печатались в изданиях статкоми-тетов в отдельных этнографических разделах. Но мы должны отчетливо представлять, что появление широкого круга исследователей-этнографов стало возможно благодаря той огромной первичной собирательской работе, которую проводили в российской провинции многочисленные любители- этнографы, жившие в уездных центрах и селах, работавшие, кстати, безвозмездно. «Едва ли в другой европейской стране, — подчеркивал академик В. Ф. Миллер, — этнография так мало обременяет государственный бюджет, как в нашем отечестве»19.
Таким образом, основными направлениями этнографической деятельности губернских статистических комитетов в изучаемый период являлись участие и содействие в работе центральных научных обществ и учреждений путем сбора в губерниях по присланным программам и вопросникам первичного этнографического материала; участие в археологических съездах и научных выставках с предоставлением результатов исследований и этнографических коллекций из своих губерний; широкая просветительская и научная работа путем публикации в провинциальных изданиях этнографических статей и материалов самого разного уровня; формирование любителей-этнографов из представителей провинциальной разночинной интеллигенции, духовенства, учителей, чиновников, юристов, врачей; создание на этой основе круга исследователей-этнографов, чьи работы регулярно издавались в местной печати; накопление ценнейшего комплекса опубликованных источников по этнографии местного края.
Список литературы Становление и развитие этнографии в Пензенской, Саратовской и Тамбовской губерниях
- Максимов С. В. Заметка по поводу издания народных сказок // Живая старина. СПб., 1897. Вып. 1. С. 48.
- Пыпин А. Н. История русской этнографии. СПб., 1890. Т. 1. С. 33.
- Государственный архив Пензенской области (ГАПО), ф. 9, оп. 1, д. 152, л. 2-19 об.
- Нижегородский сборник. СПб., 1906. Т. 8. Отдел 2. С. 637-638.
- Поляков П. Село Боцманово // Саратовские губернские ведомости. 1881. № 1.