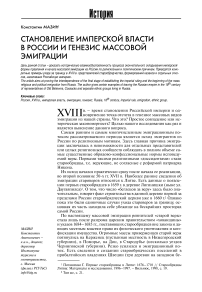Становление имперской власти в России и генезис массовой эмиграции
Автор: Мазин Константин Анатольевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2010 года.
Бесплатный доступ
Цель данной статьи доказать историческую взаимообусловленность процесса окончательного складывания имперской формы правления и начала массовой эмиграции из России по религиозным и политическим причинам. Приводятся конкретные примеры ухода за границу в XVIII в. представителей старообрядчества, формирований казаков и отдельных этносов, населявших Российскую империю.
Россия, xviii в., имперская власть, эмиграция, генезис
Короткий адрес: https://sciup.org/170165329
IDR: 170165329
Текст научной статьи Становление имперской власти в России и генезис массовой эмиграции
в. – время становления Российской империи и од- XVIII новременно точка отсчета в генезисе массовых видов эмиграции из нашей страны. Что это? Простое совпадение или историческая закономерность? Целью нашего исследования как раз и является выяснение данного вопроса.
Самым ранним и самым многочисленным эмиграционным потоком рассматриваемого периода является исход эмигрантов из России по религиозным мотивам. Здесь главная причина эмиграции заключалась в невозможности для отдельных представителей или целых религиозных сообществ соблюдать в полном объеме самые существенные обрядово-конфессиональные нормы исповедуемой веры. Первыми такими религиозными «диссидентами» стали старообрядцы, т.е. верующие, не согласные с реформой патриарха Никона.
Их исход начался практически сразу после начала ее реализации, во второй половине 50-х гг. XVII в. Наиболее ранние сведения об эмиграции староверов относятся к Литве. Есть данные о появлении первых старообрядцев в 1659 г. в деревне Лигинишки (ныне ул. Даугавпилса)1. О том, что число «беглецов за веру» здесь было значительным, говорит факт строительства в данной деревне первой за пределами России старообрядческой церкви уже в 1660 г.2 Однако пока это были единичные случаи ухода староверов за границу, основная их часть находила себе убежище на бескрайних просторах самой России.
МАЗИН Константин
По настоящему массовой эмиграция ревнителей «старой веры» стала лишь после разгрома царским правительством «хованщины» и указов 1684–1685 гг., поставивших старообрядцев вне закона и дающих местным властям право их физического уничтожения и конфискации имущества. Огромные массы приверженцев старой веры потянулись на Керженец (пустынная местность в Нижегородской губернии), в Поморье, на Дон, в Стародубье (несколько уездов Черниговской губернии). Резко усилился и эмиграционный поток. Есть сведения о создании старообрядческих поселений в прибалтийских владениях Швеции (три деревни на западном бе- регу Чудского озера)1, о проникновении староверов в Курляндию и Пруссию2. Один из первых отцов старообрядчества, бывший игумен Тихвинского Николо-Бесединского монастыря, бежал от преследований к Каспийскому морю и поселился со своими сподвижниками близ реки Кумы3. Появляется первое поселение старообрядцев в австрийских владениях Миттока-Драгомира, более известное под названием Соломинцев4. В 1688–1692 гг. основывается поселение приверженцев старой веры на Тамани, тогда территории Крымского ханства. Преследования царского правительства, неприемлемые для старообрядцев изменения в законодательстве стран-реципиентов, помноженные на традиционное для ревнителей старой веры желание максимально отгородиться от враждебного мира «антихриста», постоянно будут расширять географию расселения староверов как внутри страны, так и за ее пределами.
Постепенно происходит дифференциация внутри всего движения старообрядцев, появляются его различные модификации – «согласия», по-разному трактующие основные каноны старой веры. Это придает еще большую мобильность отдельным представителям староверов, стимулируя, на сей раз по внутренним причинам, их миграцию и эмиграцию.
В начале XVIII в. на фоне окончательного оформления абсолютной монархии борьба властей против старообрядчества приобретает еще более жесткий характер. Так, в 1706 г. по поручению Петра I новгородский архиепископ Питирим буквально «разорил» все старообрядческие поселения вблизи Керженца. Это привело к массовому бегству староверов за границу и не только к росту контингента религиозных эмигрантов, но и к перемещению духовного центра старообрядцев поповского согласия за пределы России. Таковым стала Ветковская колония ревнителей старой веры, расположенная на территории Речи Посполитой. Она зародилась еще в конце XVII в. с основанием поселения старообрядцев на реке Сож (пограничная со Стародубьем местность) с главной слободой на острове Ветка, откуда и пошло собирательное название этой колонии. К началу XVIII в. она насчитывала уже четырнадцать слобод с населением около 40 000 чел. Были основаны мужской и женский монастыри. В 1695 г. построена церковь во имя Покрова Богородицы, где велись регулярные службы.
Ветка являлась далеко не единственным местом эмиграции ревнителей старой веры на территории Речи Посполитой. Постепенно колонии староверов растянулись на шестьсот километров – от Нарвы до Витебска. Они были пока малочисленны, но постоянно пополнялись «утеклеца-ми» из ближайших Новгорода и Пскова.
Здесь стали появляться новые модификации старообрядчества; например, «федосеевское согласие», самое многочисленное среди беспоповцев, оформилось именно в Речи Посполитой. Основатель данного согласия Феодосий Васильев пытался основать свои общины и на территории России. Но в 1711 г. он был арестован и вскоре скончался от истязаний в новгородской тюрьме. Созданные им общины быстро распались из-за правительственных репрессий. Напротив, федосеевские общины в Польше продолжали жить и расти, а в 1718 г. основывается Гудининская обитель – своеобразная «Мекка» старообрядцев-беспоповцев в Литве.
В Прибалтике наблюдалась большая активность представителей и других беспоповских согласий. В 1735 г. старец Федор Никифорович основал молельню в деревне Самани (Саманяй) и прозван был за это Саманским. Сия дата считается началом Зарасайской старообрядческой общины, насчитывающей уже 275-летнюю историю своего существования. В 1740 г. Федор Саманский основал храм в деревне Войтишки (ныне Даугавпилский район Литвы). А в 50-е гг. XVIII в. он был приглашен в Ригу, где основал знаменитую и существующую до сих пор Гребенщиковскую общину5. Так, религиозная доктрина, созданная в эмиграции, водворилась на территории Российской империи.
Наличие за рубежом большого количества старообрядческих общин, членами которых были бывшие подданные России, раздражало царские власти и вызывало попытки вернуть их на родину. Особенно привлекательной в этом плане была развитая в экономическом и духовном отношении Ветка. Правительство Анны Иоанновны, повсюду искавшее сбежавшего тяглеца, первым обратило внимание на процветающий центр старообрядчества. В 1733 г. манифестом императрицы ветковцы были приглашены вернуться в Россию. Документ обеспечивал прощение вины и право выбора места жительства, но лукаво умалчивал о введенном еще при Петре I двойном налогообложении старообрядцев. Естественно, ветковцы ответили решительным отказом. В 1735 г. пять российских полков произвели первую так называемую «выгонку» Ветки. В Россию было увезено около 14 000 чел.
Однако через пять лет старообрядцы вновь густо заселяют Ветку, строят часовню, а затем большой храм во имя Покрова Богородицы (освящен в 1757 г.). Возрождается монастырь, даже начинается поиск архиерея для восстановления полноты иерархии, утраченной после смерти последнего старообрядческого епископа Павла Коломенского.
В 1755 г. разгрому подверглась Гудининская обитель. Однако бежавшие отсюда староверы основали новый монастырь в деревне Дегучай. Впоследствии здесь возникла целая система старообрядческих учреждений, где кроме храма были приют для бедных и гостиница.
В 1762 г. был обнародован манифест Екатерины II, призывавший селиться в России людей всех наций, а также приглашавший на родину всех русских беглецов и обещавший им прощение всех преступлений и другие «матерныя щедроты»1. Это привело к возникновению определенной тенденции к реэмиграции старообрядцев, особенно среди разбогатевших федосеевцев, не желавших мириться со своим зыбким на чужбине статусом бесправного иммигранта. Молчанием ответила Ветка, за что по приказу Екатерины II в 1764 г. произошла вторая «выгонка» этой старообрядческой колонии. Русские войсковые подразделения угнали на поселение в Сибирь почти 20 000 ревнителей старой веры. Некоторым удалось уйти в старообрядческие слободы, образовавшиеся еще дальше за рубежом, в пределах киевского воеводства, но основная масса не оказавших сопротивление староверов была переселена в Стародубье.
Российские власти уже давно не стеснялись проводить свои широкомасштабные акции по поимке старообрядцев на территории Речи Посполитой, поэтому она становится все менее привлекательной для религиозных эмигрантов. К тому же были другие страны, принимавшие русских староверов. Например, Турция, ставшая страной-реципиентом для эмигрантов-старообрядцев практически одновременно с Речью Посполитой. Самым популярным здесь местом поселения стала Добруджа (местность в устье Дуная, часть современной Южной Румынии и Северной Болгарии). Там первые поселения староверов появились в самом начале XVIII в. В последующем появляются селения приверженцев древлеправо-славной веры Вилково, Камень (вблизи Мачина), Татарица (по пути из Силистрии к Туртукаю), Новинка (близ Чирсова). Кроме того, значительное число старообрядцев проживало в городах Тульче, Исакче, Мачине, Бабадаге и разных местечках, рассеянных вдоль Черного моря до Адрианополя2.
Третьейстраной,послеРечиПосполитой и Турции, принявшей на свою территорию российских эмигрантов по религиозным убеждениям, стала Австрийская империя, которой в XVIII в. принадлежала Буковина. Как уже указывалось выше, первое селение Соломинцев возникло здесь еще в конце XVII в. В дальнейшем появились Климоуц, где жили старообрядцы беспоповского согласия, и Белая Криница, которой было уготовано стать очень значимой для ревнителей старой веры поповского согласия. Именно здесь свершится мечта поповцев – восстановление собственной трехчинной иерархии (в 1846 г. был совершен обряд присоединения митрополита Амвросия к Древлеправославной церкви Христовой3).
Какие только меры не предпримет царское правительство по отношению к возникшей конфессии: от гонений и арестов представителей Белокриницкой иерархии в России до дипломатического давления на австрийские власти, завершившееся ссылкой только что обретенного митрополита1.
Почему же имперские власти, проявлявшие известную веротерпимость к традиционным нехристианским конфессиям, с таким упорством боролись со своими же «братьями во Христе»? Ответ достаточно прост: старообрядцы со своим желанием не вступать ни в какие связи с властью «антихриста», с уклонением от рекрутской обязанности, не упоминанием в молитвах действующего правителя просто не укладывались в унифицированную схему взаимоотношений императорской государственной машины с жителями страны. Не будем забывать, что церковь по-прежнему осуществляла значительные идеологические функции государства как проводник официальной идеологии. Став после реформы Петра I частью государственного аппарата, официальное православие окончательно лишилось даже незначительной возможности плюрализма в этом отношении, поэтому конфликт между старообрядчеством и имперской властью приобрел не только перманентный, но и непреодолимый характер2.
Еще одной частью населения России, для которой становление имперской власти привело к появлению мотивации к бегству за пределы Родины, стали отдельные группы казачества. Это относится к еще одному виду эмиграции – сословно-политической, под которой мы понимаем исход казаков из Российской империи в результате полной или частичной утраты ими прежних сословных привилегий, ведущих, как правило, не только к снижению их социально-политического статуса, но и серьезным экономическим осложнениям.
Первыми эмигрировали в 1708 г. каза-ки-некрасовцы. Свое название они получили по имени вдохновителя их ухода за рубеж Игната Некрасова, бывшего одним из соратников К.Ф. Булавина. Причины эмиграции некрасовцев, на наш взгляд, во многом схожи с причинами и мотивами именно этого казацкого возмущения. И хотя отечественная историография трактует восстание под предводительством Булавина более широко, иногда даже как крестьянскую, т.е. народную войну против царизма и крепостного права, по нашему мнению, данный подход в значительной степени является преувеличением. Более справедливо и исторически конкретнее было бы, на наш взгляд, исходить из того, что булавинцы и их наиболее дееспособное ядро – донские казаки боролись не за призрачное народное счастье, а за сохранение своих узкосословных привилегий.
Причины эмиграции другой части казачества – запорожцев – во многом схожи с причинами бегства из России казаков-не-красовцев. Ограничение сословных привилегий в плане приема беглых крестьян (основного источника пополнения казачества), автономного самоуправления, свободного доступа на другие территории привели к исходу из России запорожских казаков в 1709 г. после Полтавской битвы, в которой они принимали активное участие на стороне шведов.
В 1734 г. запорожцам удалось добиться прощения со стороны царских властей, вернуться на родину и основать новую Сечь. Но просуществовала она чуть более сорока лет и в 1775 г. была ликвидирована. Сечевики вновь ушли за пределы империи, на этот раз навсегда.
XVIII в. вообще стал веком постепенного лишения казацкого сословия их прав и привилегий. Было ликвидировано Волжское казачье войско, Яицкое (переименовано в Уральское) – ограничено в правах и полностью подчинено Военной коллегии, Донское – лишено самоуправления и реорганизовано. Чтобы контролировать казаков, вблизи их расположения часто размещали гарнизоны регулярных войск. Так что постепенное наступление на Запорожскую Сечь проходило в общем русле правительственной политики в отношении казачества.
В таких условиях у казаков было только два пути – либо пойти на компромисс и согласиться с требованиями имперских властей, либо покинуть пределы Российской империи.
XVIII в. стал веком появления еще одной разновидности эмиграции – национально-политической, не прекращающейся и в последующие периоды существования Российской империи, и одной из самых многочисленных. Этот вид эмиграции подразумевает уход за границу России значительной части какого-либо этнического сообщества вследствие утраты перспективы сохранения своих этнокультурных, социально-политических и экономических особенностей в местах прежнего обитания. Одним из первых народов, у которого появилась тенденция к эмиграции, стали калмыки. Они были окончательно приняты в состав России в середине 50-х гг. XVII в. В 1664–1771 гг. существовало Калмыцкое ханство в составе Российского государства. Во взаимоотношениях царского правительства и руководителей калмыков прослеживались типичные моменты только частичного подданства в рамках очень широкой автономии, когда калмыки то и дело нарушали данные обязательства (вступали в сепаратные отношения с Крымским ханством, совершали грабительские набеги на соседей – башкир, ногайцев и т.д.).
Наибольшую остроту конфликт калмыцких нойонов и царских властей приобрел во второй половине XVIII в., когда начинается крестьянское заселение Нижнего Поволжья. По очень точному определению М.М. Бадмаева, «калмыки стали объектом вольной и правительственной колонизации земледельческого населения России. Эта колонизация, отражая объективно-экономическое развитие русского государства, на определенном этапе вступила в противоречие в первую очередь с интересами крупного скотоводческого хозяйства калмыцких феодалов»1. Таким образом, исторический вызов для господствующих кругов Калмыцкого ханства заключался в необходимости врастания в новые реалии, а для имперских властей – в умении обеспечить поступательность этого процесса.
Однако ни та ни другая сторона не почувствовали остроты момента. В 1771 г. Калмыцкое ханство было ликвидировано, а 120 000 калмыков, подгоняемых своими владетелями и преследуемых царскими войсками и казахскими ордами, потеряв до половины своей численности, навсегда покинули Россию и водворились на территории Китая. Набиравшая все большую силу в эпоху правления Екатерины II Российская империя уже не заботилась о полутонах и нюансах в своих действиях. Имперская мощь создавала иллюзию не обязательности длительной подготовки тех или иных мероприятий по унифика- ции прав и обязанностей всех без исключения российских подданных.
Та же участь ожидала около 200 000 крымских татар и ногайцев, эмигрировавших с территории Крымского ханства, когда оно вошло в 1783 г. в состав Российской империи.
XVIII в. – не только переломный в истории России, когда началось сближение с Европой, а эпохальные реформы Петра I произвели радикальные изменения в жизни нашей страны. Это еще и период возникновения совершенно нового явления – массовой эмиграции населения с ее территории. Вопрос о массовом характере этого явления, казалось бы, является достаточно спорным. Например, можно ли говорить о массовой эмиграции казаков-некрасовцев, когда речь идет о 900–1200 чел.? Но если учесть то, что это были все последователи Игната Некрасова, то приходится констатировать, что Россию полностью покинули представители этой зарождающейся этнокультурной общности. То же самое можно сказать об эмиграции запорожцев, особенно о второй ее стадии в 1775 г., когда Россию оставило 10 тыс. из 13–14 тыс. сечевиков, т.е. подавляющая масса запорожских казаков. Ну а в случаях с эмиграцией калмыков, ногайцев, крымских татар вообще говорить не приходится, потому что эти эмиграционные потоки исчисляются сотнями тысяч беглецов, составлявшими не только значительную, но и большую часть перечисленных народностей. Старообрядческая эмиграция хотя и не увела за рубеж России большую часть ревнителей старой веры, но также исчислялась сотнями тысяч эмигрантов.
В течение XVIII в. Россию покинуло, по очень неточным, подчас, к сожалению, умозрительным подсчетам, от 700 и более тыс. чел. Сальдо эмиграции, т.е. разность между числом прибывших (иммигрантов) на какую-то территорию (в страну) и числом выбывших (эмигрантов) из нее за определенный срок, составила, по нашему мнению, минусовую величину в 600 тыс. чел.
Если воспользоваться современной методикой классификации государств на страну иммиграции (реципиента) и на страну эмиграции (донора), при которой 2% и более от всего населения ушедших за рубеж или переехавших из-за границы на постоянное место жительства определяют его статус, то путем нехитрых подсчетов можно выяснить, что Россия в XVIII в. стала страной эмиграции (донором), так как из нее эмигрировало не менее 3,2% среднестатистического количества населения в этом столетии. В то же время российское государство не стало страной иммиграции (реципиентом), потому что в него переселилось лишь 0,5% того же количества.
Странами-реципиентами для российских эмигрантов стали ближайшие к России государства – Турция, Крымское ханство, Речь Посполитая и некоторые другие. Здесь сказалась и благоприятная в основном иммиграционная политика этих государств (хотя временами она резко менялась), предоставляющая возможность для успешной адаптации, и, вероятно, то обстоятельство, что изгнанникам требовалась связь с утраченной родиной, а может быть, и реэмиграции в нее в случае изменения отношения царских властей к определенным группам эмигрантов. Динамика коэффициента эмиграции, т.е. отношение числа эмигрантов, покидающих ту или иную страну, к средней численности ее населения за определенный период, выглядит следующим образом: первая половина XVIII в. – 0,019; вторая половина того же столетия – 0,012. Здесь прослеживается тенденция к снижению, хотя в количественном значении число эмигрантов остается приблизительно постоянным – около 350 тыс. чел.
В первой половине XVIII в. подавляющее число эмигрантов покинуло родину по религиозным мотивам плюс сословно-политическая составляющая общего эмиграционного потока в лице первой эмиграции запорожцев и безвозвратной эмиграции казаков-некрасовцев. Во второй половине данного столетия религиозная эмиграция довольно резко снижается, а в результате гуманитарно-державной политики Екатерины II даже намечается некоторая тенденция к реэмиграции. В этот период на первое место выходит национально-политическая эмиграция калмыков, ногайцев и крымских татар. Из этого можно сделать вывод, что центр складывания факторов эмиграции переместился из сферы религиозных противоречий между государством и значительной частью русского народа в область колониальной политики России.
Действительно, именно в XVIII в. меняется тип колонизации, который применяла Российская империя в освоении новых территорий. Если в XVII столетии российская колонизация Сибири основывалась на меховой и пушной торговле, предусматривающей обязательное сотрудничество и контакт с местными жителями, к которым и было соответствующее отношение царских властей, оберегавших аборигенов как ценнейших плательщиков ясака, то во второй половине XVIII в. колонизация стала носить земледельческий характер, при котором местные жители уже служили помехой. Так было и с населением Крымского ханства, недавно вошедшего в состав России, так было и с калмыками, 150 лет относительно спокойно жившими в России, пока обладали широкой национально-государственной и хозяйственной автономией. Но после ее утраты и в результате крестьянской, казачьей и помещичьей колонизации, а также вследствие попыток имперских властей унифицировать свои отношения с калмыками и они предприняли попытку эмиграции.
И здесь мы подходим к выяснению главной, основной, по нашему мнению, причины эмиграции не только в XVIII в., а, пожалуй, вообще из дореволюционной России. Потребность любой империи – унификация государственных повинностей всех ее граждан вне зависимости от их сословной, национальной или религиозной принадлежности; стремление к единообразию всего и вся очень часто вопреки веками сложившимся взаимоотношениям отдельных групп граждан и государственной власти. Отсюда и возникает у представителей различных сословных, религиозных и национальных общностей мотивация к добровольному изгнанию из страны, где их лишают прежней самобытности. Причем мотивация эта настолько сильна, что люди уходили с территории России чаще всего совершенно спонтанно, не имея четкого представления о возможной их судьбе в новой стране пребывания, просто не в силах перенести обиду, нанесенную родиной.
XVIII в. – не только период формирования Российской империи, это время зарождения имперских амбиций у большей части ее бюрократического аппарата да и, чего греха таить, у подавляющего большинства среди высших слоев русского общества. Поэтому чаще всего, вместо поиска разумного компромисса, российская администрация принимала жесткие, порой неоправданные меры к потенци- альным эмигрантам, тем самым не решая проблему, а лишь усиливая мотивацию к эмиграции. Таким образом, по нашему глубочайшему убеждению, именно имперские порядки абсолютистской, самодержавной России и являются главным источником всех без исключения эмиграционных потоков с ее территории.
Эмиграция в XVIII в. носила преимущественно добровольно-вынужденный характер. Добровольной она была в том плане, что подавляющее число эмигрантов принимали решение об оставлении родины самостоятельно, а вынужденной – потому, что к этому шагу их вынуждали те или иные обстоятельства. Например, вхождение в состав Российского государства, потеря сословных привилегий или национальной автономии и т.п. В редких случаях эмиграция являлась преимущественно вынужденной, когда будущим эмигрантам угрожала потеря свободы или жизни (здесь можно, пожалуй, привести пример казаков-некрасовцев).
Способом оставления родины в описываемый период почти всегда было простое пересечение сухопутной границы, гораздо реже для этого использовались морские пути.
Эмиграция из России в XVIII в. была почти на 100% нелегальной. Российское законодательство не предполагало каких-либо способов законного исхода из отчизны. Это не упрек в отсталости нашему государству – в данное время отсутствовала и подобная мировая практика, а лишь констатация факта. С другой стороны, следует отметить, что желание имперских властей во что бы то ни стало не отпускать за границу тяглеца приводило к еще одному последствию: постепенному складыванию образа эмигранта как врага, предавшего интересы не только государства, но и всего российского народа. Как потерю последнего рассматривал эмигрантов, например, М.В. Ломоносов, называя их «живыми покойниками»1. Правда, великий ученый считал невозможным запретить эмиграцию. Такой трезвый взгляд был совершенно не присущ бюрократической машине Российской империи, исходившей из привычной установки «держать и не пущать».
Поэтому эмиграция с самого начала носила в России какой-то драматический, иногда доходивший до трагизма оттенок. На наш взгляд, даже в само это понятие мы до сих пор вкладываем не историкодемографический, а философский смысл.
Эмиграция – это в значительной степени спасение себя. А это уже прямая противоположность русской ментальности, когда наш народ представляет себя мессией, призванным спасти все человечество, забывая подчас, что спасать надо в первую очередь себя. Но это удел эгоистичных англичан, ирландцев, французов, немцев и других так называемых «цивилизованных» европейских народов. Поэтому эмиграция как средство спасения самих себя в нашей стране всегда будет иметь горький привкус бегства не из России, а от России, как, в известной степени, предательство не формально-политическое по отношению к государству, а сущностное, по отношению к оставляемым на родине соотечественникам. Недаром первые русские святые Борис и Глеб, смиренно встретившие своих убийц, так почитаемы русским народом. А их родной брат Олег, отдавший предпочтение эмиграции, но все равно убитый при попытке к бегству, не только не канонизирован, но и очень редко упоминаем в анналах истории.
На наш взгляд, даже сегодня временное и постоянное пребывание за границей кого бы то ни было вызывает раздражение и социальную зависть у значительной части и нашего современного общества. И, несмотря на огромные подвижки в этом плане, происшедшие за последние десятилетия, до сих пор россиянин за рубежом – все еще не до конца понятый и не целиком оправданный персонаж нашей истории. Мы надеемся, что исследование истории эмиграции хотя бы немного поможет в деле преодоления этого стереотипа в отношении людей, которые просто искали счастья и лучшей доли, пусть они и перешли в этом поиске границу своей Родины.