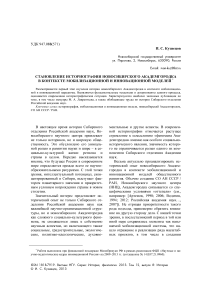Становление историографии Новосибирского академгородка в контексте мобилизационной и инновационной моделей
Автор: Кузнецов Иван Семенович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Историография
Статья в выпуске: 8 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается первый этап изучения истории новосибирского Академгородка в контексте мобилизационной и инновационной парадигмы. Выявляются фундаментальные тенденции и детерминанты данного процесса, оценивается современная историографическая ситуация. Характеризуются наиболее значимые публикации по теме, в том числе мемуары М. А. Лаврентьева, а также обобщающие труды по истории Сибирского отделения Российской академии наук.
Историография, мобилизационная и инновационная модели, новосибирский академгородок, со ан ссср / ран
Короткий адрес: https://sciup.org/147218919
IDR: 147218919 | УДК: 947.088(571)
Текст научной статьи Становление историографии Новосибирского академгородка в контексте мобилизационной и инновационной моделей
В настоящее время история Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирского научного центра привлекает не только историков, но и широкую общественность. Это обусловлено его уникальной ролью в развитии науки и шире – в социально-культурной жизни региона и страны в целом. Нередко высказывается мнение, что будущее России в современном мире определяется прежде всего ее научнообразовательными ресурсами. С этой точки зрения, интеллектуальный потенциал, сконцентрированный в Сибири, выступает фактором планетарного значения и приоритетным условием возрождения страны в новом столетии.
Значительный интерес представляет исторический опыт не только Сибирского отделения Российской академии наук как важнейшей научно-организационной структуры, но и новосибирского Академгородка как сложного социально-культурного феномена, не сводящегося лишь к собственно научным аспектам, но включающего также социальные, градостроительные, экологические, политико-идеологические, духовно- ментальные и другие аспекты. В современной историографии отмечается растущее стремление к осмыслению «феномена Академгородка» именно как особого социальноисторического явления, значимость которого не ограничивается ролью одного из компонентов Сибирского отделения Академии наук.
Весьма актуально проанализировать исторический опыт новосибирского Академгородка в контексте мобилизационной и инновационной моделей общественного развития. Обычно создание СО АН СССР / РАН, Новосибирского научного центра (ННЦ), Академгородка связывается со специфическими условиями «оттепели» (см., например: [Артемов, 1990; 2006; Водичев, 1994; 2012; Российская академия наук…, 2007]). Не отрицая приоритетности такого рода подхода, правомерно обратить внимание на другую сторону дела. С нашей точки зрения, в послесталинский период в той или иной мере сохранялись элементы так называемой мобилизационной системы, что нашло отражение в реализации ряда масштабных проектов, в том числе в создании названного научного центра. Некоторые проявления мобилизационной модели в процессе создания новосибирского Академгородка ранее были рассмотрены в публикации автора данной статьи [Кузнецов, 2011].
Следует подчеркнуть, что в современной историографической ситуации понятие «мобилизационная модель экономического развития» хотя и получило достаточно широкое признание, однако в немалой степени остается дискуссионным (см., например: [Kenez, 1985; Галкин, 1990; Фонотов, 1993; Никифорчук, 2004; Кузнецов, 2012а; 2012б; 2012в; 2013; Мобилизационная роль…, 2012; Социальная мобилизация…, 2011; 2012; Ушакова, 2012]).
Наиболее широкое обсуждения соответствующего понятийного аппарата имело место на двух всероссийских конференциях в Челябинске [Мобилизационная модель…, 2009; 2012]. Ряд участников этих мероприятий согласились со следующим определением А. Г. Фонотова: «Развитие, ориентированное на достижение чрезвычайных целей с использованием чрезвычайных средств и чрезвычайных организационных форм, будем называть мобилизационным типом развития» [1993. С. 88]. Исходя из данного подхода, характерной ситуацией для мобилизационной экономики является война или подготовка к ней. Однако из выступлений участников названных конференций следовало, что мобилизационная экономика получает гораздо более широкую трактовку, включающую, в частности, активную роль государства в организации действий по мобилизации ресурсов страны, необходимых для выполнения поставленных задач, используя при этом внеэкономические методы воздействия [Мобилизационная модель…, 2009. С. 7; 2012. С. 21].
В свою очередь, под инновационной экономикой подразумевается экономика, в которой «устойчивый инновационный импульс создается непосредственно фактором знания» (см., например: [Али-Заде, 2012. С. 196]).
Конституируя теоретико-методологические ориентиры нашего исследования, следует подчеркнуть, что здесь история Новосибирского научного центра рассматривается в контексте социальной истории науки. В рамках данной парадигмы, как известно, основное внимание уделяется не содержа- тельной стороне научно-исследовательской деятельности, а взаимодействию науки с социумом. В связи с этим приоритет отводится таким сюжетам, как инфраструктурная, организационная и кадровая компоненты, политико-идеологические детерминанты.
При этом мы основываемся на подходах, сформулированных в ряде трудов отечественных авторов по теоретическому науковедению, а также истории советской науки (см., например: [Авдулов, Кулькин, 2003; Александров, 2002; Аллахвердян, Агамова, 2009; Анчишкин, 1989; Балакин, 1997; Безбородов, 1997; Водопьянова, 1999; Евсеен-ко, Унтура, 1990; Есаков, Осипов, 2000; Козлов, 2003; Лахтин, 1990; Лебедев, 1991; Летохов, 2012; Макаренко, 2012; Метафизика…, 1994; Наука и кризисы…, 2003; Подвластная наука…, 2010; Репрессированная наука, 1991; 1994]). Принимаются во внимание также положения и выводы ряда зарубежных науковедов и историков науки (см.: [Башляр, 1987; Грэхэм, 1991; Грэхэм, Кантор, 2011; Холловэй, 1997; Аdams, 2001; Fortescue, 1990; Josephson, 2005; Kremetsov, 1997, 2004; Меrton, 1973; Slapentokh, 1990; Solomon, 1980; Stuart, 1993]).
Важным инструментом обобщения исторического опыта, бесспорно, является реконструкция историографического процесса, выявление основных тенденций и этапов исследования соответствующей темы. Обращаясь непосредственно к историографии новосибирского Академгородка, прежде всего необходимо отметить, что в свое время наиболее обстоятельный анализ интересующего нас круга литературы был предпринят в статье Е. Г. Водичева и Ю. И. Уз-бековой [2004]. Разумеется, названная публикация не исчерпывает темы, во-первых, в силу того, что ее предметная область (академическая наука) хотя и пересекается с нашей (история Академгородка), но не тождественна ей. Во-вторых, с момента выхода рассматриваемой публикации прошло уже почти десятилетие, за это время по ряду позиций в историографии произошли существенные и даже кардинальные сдвиги, что, разумеется, следует принимать во внимание. В какой-то мере это компенсируется публикациями автора данной статьи о новейшей литературе по истории СО АН СССР / РАН [Кузнецов, 2005; 2008; 2009].
Определяя круг рассматриваемых в данной статье историографических объектов, можно выделить две основные группы публикаций, одну из которых составляют пока еще относительно немногочисленные работы, посвященные непосредственно новосибирскому Академгородку. Вторая, гораздо более многочисленная, группа – труды, где история Академгородка не является основным предметом, затрагивается в той или иной мере. Это прежде всего исследования по истории СО АН СССР / РАН, а также других сегментов отечественной науки.
При этом мы уделяем приоритетное внимание обобщающим работам, в то же время разнообразные и довольно многочисленные публикации, посвященные развитию отдельных научных дисциплин и различных НИИ, а также персоналиям, как правило, не подвергаются специальному анализу.
Помимо этого следует подчеркнуть, что круг историографических объектов понимается здесь расширительно: учитываются не только труды профессиональных историков, но и работы представителей других наук, а в ряде случаев также и публицистика, мемуары и иной раз даже художественные произведения. Такое нестандартное решение определяется двумя мотивами, первый из которых – недостаточная изученность темы, относительно небольшое количество работ профессиональных историков непосредственно по теме. Второе: порой, в силу комплекса причин, их определенная концептуальная ограниченность, недостаточное внимание к сложным проблемам, ввиду чего иной раз наиболее интересные, оригинальные, хотя и небесспорные положения мы встречаем не у историков, а у публицистов и мемуаристов.
Характеризуя основные этапы рассматриваемого историографического процесса, следует прежде всего внести определенные коррективы в периодизацию, предложенную в упоминавшейся статье Е. Г. Водичева и Ю. И. Узбековой. Они выделяют три основных этапа изучения истории академической науки Сибири: 1957–1960-е гг.; конец 1960-х – середина 1980-х гг.; вторая половина 1980-х – 2000-е гг. [2004. С. 120–135]. Как представляется, применительно к истории новосибирского Академгородка в рассматриваемом историографическом процессе более обоснованно выделить два основных периода, принципиальный рубеж между которыми пролегает на грани 1980– 1990-х гг.
Главной особенностью первого периода является развитие историографии преимущественно в рамках господствующей идеологической парадигмы, что, разумеется, в решающей степени определяло содержание соответствующей литературы. В свою очередь, в рамках первого периода прослеживаются два этапа , первый из которых охватывает годы становления СО АН и Академгородка (рубежом здесь является середина 1960-х гг.). Особенности историографического процесса на данном, начальном, этапе определялись, с одной стороны, обычными «трудностями рождения» – отсутствием временной дистанции и необходимого круга исследователей. Поэтому здесь основным достижением следует признать накопление эмпирического материала и первичное осмысление событий. Но, с другой стороны, именно в это время были опубликованы первые и на долгое время единственные работы именно об Академгородке. Это, разумеется, определялось не тем, что первые исследователи темы были «умнее» последующих. Дело в том, что в период становления СО АН данная научноорганизационная структура была почти равнозначна ННЦ, создание же соответствующих сегментов в Иркутске и других городах находилось в то время на начальной стадии.
В кругу появившихся в это время работ о рождении новосибирского Академгородка наибольшую ценность представляют две публикации. Первая из них вышла под редакцией Г. С. Мигиренко, членами ее авторского коллектива были известные впоследствии историки В. Л. Соскин и И. А. Мо-летотов, – в то время, как известно, первый из них был ученым секретарем комиссии по общественным наукам при президиуме Сибирского отделения, второй – заместителем секретаря парткома СО АН [Новосибирский научный центр, 1962]. Второй труд был опубликован авторским коллективом в составе первого секретаря Советского райкома М. П. Чемоданова, группы руководящих работников «Сибакадемстроя» (Н. М. Иванов, А. М. Вексман, С. Г. Глущенко, А. И. Лесков, Б. И. Суханов, В. Н. Твардовский, Л. И. Юденич), архитекторов «Сибакадемпроекта» (И. Г. Леберфарб, А. С. Михайлов), а также главного инженера Управления капитального строительства СО АН А. С. Ладинского [Строительство города науки, 1963].
Для своего времени это были весьма ценные очерки, где процесс «рождения» Академгородка рассматривался в комплексе, с учетом его научно-организационных, градостроительных и общественно-политических аспектов. Вместе с тем вторая из названных работ стала родоначальницей некоторых неточных версий рассматриваемого процесса. Так, в ней утверждалось: «Для строительства научного центра СО АН СССР в Новосибирске было сформировано управление строительством – “Сибакадем-строй”». Далее события излагаются таким образом, будто это произошло в самом начале строительства Академгородка. Лишь ближе к концу книги мимоходом замечается: «Строительство научного городка частично начиналось на базе бывшего треста “Новосибирскгэсстрой”» [Там же. С. 33, 92].
Впоследствии названную версию некритически воспроизвел автор наиболее известного труда по истории градостроительства в Новосибирске С. Н. Баландин, который писал: «Для строительства научного городка было сформировано управление строительства – Сибакадемстрой (1 августа 1957 г.)» [Баландин, 1986. С. 65]. В связи с этим следует пояснить, что указанная дата ознаменовалась созданием строительного управления «Академстрой» в рамках треста «Новосибирскгэсстрой», которое не имело никакого отношения к «Сибакадемстрою», созданному в мае 1959 г. На базе названного строительного управления в декабре 1957 г. был создан трест «Новосибиркгэсстрой-2», а управление «Академстрой» в январе 1958 г. было преобразовано в строительное управление № 1 (СУ-1) данного треста. С этого времени и до мая 1959 г. указанный трест иной раз неофициально именовали «Ака-демстроем».
Более точно о первостроителях Академгородка сказано в первом из упомянутых трудов о создании ННЦ. Здесь сообщается, что осенью 1957 г. «было признано целесообразным передать строительство научного городка из ведения Министерства электростанций Новосибирскому совнархозу. Был создан новый трест Новосибирскгэсстрой-2. Это улучшило ведение работ, позволило осуществлять строительство более организованно». Далее отмечается: «В мае 1959 г. строительство Академгородка было передано из ведения Новосибирского совнархоза другой строительной организации. В истории строительства Новосибирского научного центра этот момент следует считать переломным. Как показал анализ, строительство, осуществлявшееся Новосибирским совнархозом, несмотря на большую энергию и усердие коллектива рабочих, инженеров и техников, хотя и достигло ряда успехов, в целом не давало уверенности в безусловном выполнении правительственного задания о создании города науки в кратчайшие сроки» [Новосибирский научный центр, 1962. С. 33, 35].
Обращаясь далее к анализу литературы второго периода , прослеживающегося в рамках первого этапа , в качестве его главной особенности следует указать прогрессирующее уменьшение внимания к теме собственно Академгородка. По мере развития Сибирского отделения АН СССР, все большего выхода его за пределы ННЦ, внимание исследователей вполне естественно концентрировалось именно на СО АН. В сущности, вплоть до конца советского периода не появилось ни одной работы профессиональных историков, непосредственно посвященной новосибирскому Академгородку. Эта тема лишь в какой-то мере затрагивалась в связи с историей СО АН, а также в трудах по истории отечественной науки.
При этом упоминания об Академгородке, как правило, сводились к набору стандартных положений, которые должны были раскрыть прогрессивное развитие советской науки. Состояние историографии темы на данном этапе наиболее яркое выражение нашло в первой обобщающей работе по истории Сибирского отделения – его хронике, подготовленной к 25-летию СО АН СССР [Академия наук…, 1982]. В свое время это явилось уникальным изданием, по ряду позиций не потерявшим ценности и в наши дни. Вместе с тем содержание названной хроники, естественно, было ограничено как концептуальным замыслом, так и условиями времени.
Во-первых, с точки зрения тематики основное внимание в нем уделено собственно научным и научно-организационным аспектам, лишь минимально отражены соответствующие государственные решения и сам процесс строительства Академгородка, а его социально-бытовая сфера и общественнополитическая жизнь практически не затрагиваются.
Во-вторых, дала о себе знать специфичность источниковой базы: в книге использованы преимущественно документы из Научного архива Сибирского отделения (НАСО), а также пресса и опубликованные источники, в то же время лишь в небольшой степени привлечены материалы партийных и государственных органов.
В-третьих, сказалась общая «юбилейная» направленность книги: в ней не затронуты сложные эпизоды истории ННЦ (например, ситуация с Институтом цитологии и генетики СО АН), причем даже те, которые к тому времени были уже описаны в некоторых публикациях, например в мемуарах академиков Н. П. Дубинина [1973] 1 и М. А. Лаврентьева [Век Лаврентьева, 2000. С. 137– 183]. Видимо, то, что было позволено сказать «генералам» от науки, являлось изолированным и нестандартным фактом, не определявшим общую ситуацию в историографии.
Главное же в интересующем нас контексте то, что весь период становления ННЦ, которому в хронике посвящены с. 13–77, ознаменован буквально считанными сообщениями о вехах строительства Академгородка. Так, здесь не сообщается о первых шагах этой стройки в 1957 г., об утверждении его «Генерального плана», о сдаче в эксплуатацию первого институтского здания Академгородка – главного корпуса Института гидродинамики [Академия наук, 1982. С. 19–20, 24, 33].
Как представляется, наиболее значимое событие в изучении истории Академгородка на данном этапе произошло не в сообществе профессиональных историков. Принципиальным рубежом в изучении темы стало появление мемуарных текстов акад. М. А. Лаврентьева – «Опыты жизни. 50 лет в науке» и «…Прирастать будет Сибирью». Разумеется, прежде всего они являются ценнейшими источниками, содержат богатый эмпирический материал по истории о новосибирском Академгородке.
Вместе с тем, как представляется, эти тексты имеют и определенное историографическое значение, поскольку их маститый автор не ограничивался лишь изложением фактов. В них – на уровне, соответствующем интеллекту великого ученого, – вскрывается внутренняя логика происходивших процессов. Впервые рождение и развитие Академгородка было прослежено в хронологических рамках двух десятилетий. Также впервые здесь были затронуты некоторые сложные, острые вопросы, которые историография тех лет не решалась коснуться (в первую очередь коллизии вокруг Института цитологии и генетики). Можно сказать, что в работах основателя Сибирского отделения АН была сформирована определенная парадигма, которая, в сущности, доминирует при интерпретации его истории (со всеми плюсами и минусами такой преемственности) вплоть до наших дней.
Напомним, что первая из названных работ стала и последним произведением Михаила Алексеевича, увидевшим свет при его жизни. «Опыты жизни» впервые появились в 1979–1980 гг. в журнале СО АН «Экономика и организация промышленного производства» (ЭКО) 2, а затем в расширенном варианте были воспроизведены в книге, выпущенной к его 100-летию [Век Лаврентьева, 2000. С. 120–195, 349–375].
Вторая работа была подписана к печати 28 ноября 1980 г., т. е. уже после кончины Михаила Алексеевича (он умер 15 октября того же года). Книга «…Прирастать будет Сибирью» была выпущена тиражом 100 тыс. экз. издательством «Молодая гвардия», которое тогда считалось главным бастионом «русской партии» – национально-патриотических сил 3. Рассматриваемое произведение, видимо, представляло собой серию интервью М. А. Лаврентьева, во всяком случае на титульном листе оно обозначено как «литературная запись Н. А. Притвиц». В связи с этим напомним, что Наталья Александровна Притвиц была в то время пресс-секретарем Президиума СО АН.
В интересующем нас плане из двух рассматриваемых текстов, бесспорно, наиболее значимым были «Опыты жизни». Приоритетное внимание рождению и развитию Академгородка здесь уделено в главах девятой («Как начинался Академгородок») и де- сятой («Становление») [Век Лаврентьева, 2000. С. 137–183].
Характеризуя исторический контекст появления этого произведения, напомним, что опубликовавший его журнал ЭКО в то время являлся одним из самых популярных в стране (тираж 75 600 экз.) и имел не только специально-научное, но и широкое общественно-политическое значение. Можно сказать, что в условиях «глухого застоя» это был один из немногих очагов живой мысли. По свидетельству современников, мыслящие люди напряженно ожидали каждый номер журнала, с огромным вниманием читали его, передавали из рук в руки и обсуждали «на кухнях» и в «курилках».
Даже на этом фоне мемуары М. А. Лаврентьева выходили за все мыслимые идеологические рамки, быть может, явились самой острой общественно-политической публикацией в нашей стране на рубеже 1970-х – 1980-х гг. Удивительно уже то, что в рассматриваемом произведении совершенно отсутствовали обязательные для того времени реверансы в сторону Л. И. Брежнева. При этом в мемуарах затрагивались такие вопросы, постановку которых невозможно было представить ни в одном отечественном издании того времени. Так, автор позитивно отзывался о действовавших в период нэпа негосударственных формах организации науки, а также о знаменитом в 1960-е гг. НПО «Факел». Как уже отмечалось, интереснейшие страницы мемуаров были посвящены борьбе против «лысен-ковщины» и возрождению генетики в Новосибирском научном центре. Неудивительно, что мемуары М. А. Лаврентьева вызвали небывалый резонанс и были по итогам традиционного для этого журнала опроса читателей-экспертов признаны лучшей публикацией ЭКО за 1980 г.
Отмечая беспрецедентную насыщенность их фактическим материалом, высокий аналитический уровень, следует вместе с тем учитывать исторические обстоятельства появления данного произведения. Во-первых, возникает вопрос, почему в условиях «застоя», жесткого цензурного контроля, отставному (и фактически опальному) основателю СО АН, наряду с Н. П. Дубининым, позволили впервые раскрыть некоторые острые страницы истории советской науки конца 1950-х гг.? Не исключено, что это вписывалось в общий контекст долговременной кампании по дискредитации Н. С. Хрущева, которая получила новый импульс по мере осложнения положения дел в стране. Чем хуже шли дела у Л. И. Брежнева, тем больше был соблазн «развенчания» его предшественника.
Во-вторых, в общей концепции истории новосибирского Академгородка, нашедшей отражение в мемуарных текстах, вполне естественно, доминирует апологетическая тенденция. Скажем, ни слова не найдем там о социальных проблемах (отставание социально-бытовой сферы, жилищный вопрос), которые со всей остротой встали уже в начале 1970-х гг., а к моменту выхода мемуаров буквально «лихорадили» сибирский город науки.
Весьма существенной является тема отражения в литературе рассматриваемого периода ключевого вопроса о формах и методах ускорения научно-технического прогресса, роли наукоградов вообще и конкретно новосибирского Академгородка в данном процессе. Разумеется, в публикациях того времени дефиниции «мобилизационная» и «инновационная» модели развития еще не фигурировали. Тем не менее эти проблемы не могли не рассматриваться, что прослеживается в первую очередь в ключевом тексте – мемуарах М. А. Лаврентьева. Можно сказать, что все их содержание убеждало в необходимости перехода к инновационному типу развития. Михаил Алексеевич справедливо подчеркивал: «Уникальность сибирских природных богатств вовсе не означает, что при их освоении можно тратить любые средства, рассчитывая на то, что продукция все окупит. Здесь, может быть, даже как нигде, необходимы самые строгие комплексные подсчеты, поиск оптимальных социально-экономических решений» [Век Лаврентьева, 2000. С. 187].
Вместе с тем основатель «Сибирской Академии» как никто другой понимал сложность перехода к инновационному развитию и необходимость для решения этой исторической задачи в том числе применения определенных мобилизационных механизмов. В его опубликованных текстах, по понятным причинам, вся острота данной проблемы отражена лишь частично. Так, отмечая большие трудности в процессе развития «пояса внедрения», он делал оптимистический вывод: «Я уверен, что трудности будут преодолены и Новосибирский науч- ный центр вместе с “поясом внедрения” в полной мере превратится в научно-технический ансамбль, который не только ведет фундаментальные исследования, но и разрабатывает на их основе новые технологические процессы, машины, приборы, доводит их до совершенства и передает вместе с инженерами и техниками, участвовавшими в их создании» [Век Лаврентьева, 2000. С. 179].
При этом неопубликованные выступления М. А. Лаврентьева, в частности ряд его высказываний на заседаниях Президиума СО АН, свидетельствовали об огромной озабоченности Михаила Алексеевича этой проблемой. В связи с этим речь шла о необходимости применения определенных мобилизационных механизмов ввиду невосприимчивости отечественной экономики к инновациям (см., например: [Кузнецов, 2010. С. 34, 35]). Эта дилемма остается весьма актуальной и для нашего времени: некоторые авторы считают, что перейти на инновационный путь развития, осуществить научно-технический прорыв современная Россия может лишь при условии применения элементов мобилизационной модели (см., например: [Калашников, 2001; 2003; 2005]).
Возвращаясь к общей характеристике историографического процесса на рассматриваемом этапе, следует отметить еще одну его черту: немногие авторы, касавшиеся в это время истории Академгородка, почти не затрагивали ее социальные и политические аспекты. Что касается первого момента, то, как правило, дело ограничивалось трафаретными фразами о создании в ННЦ оптимальных социально-бытовых условий. Изучение же насыщенной и своеобразной общественной жизни научного центра, видимо, в какой-то мере тормозилось тем, что первоначально она не воспринималась в историческом контексте, была «у всех на виду». Вероятно, такой задержке в историческом освоении данной тематики способствовали и идеологические ограничения: ведь наиболее яркие проявления общественной активности в Академгородке 1960-х гг. в той или иной мере несли отпечаток политической оппозиционности.
Правда, еще в 1963 г. появилась первая обобщающая работа о деятельности партийных организаций в ННЦ, однако это была лишь небольшая брошюра [Молетотов,
1963]. В конце же 1970-х гг. наиболее заметным шагом в данном направлении стала монография о деятельности партийной организации НГУ [Дубнов и др., 1979]. Хотя она не являлась конкретно-историческим исследованием, тем не менее имела определенное историографическое значение, поскольку в ней был обобщен разнообразный опыт общественной жизни.
Характеризуя в целом историографию темы в рамках первого из обозначенных периодов, видимо, было бы неправильно ограничиваться лишь отечественными публикациями. Дело в том, что в это время тема новосибирского Академгородка начинает находить определенное отражение и в зарубежной литературе. Разумеется, это было значимо не только как симптом растущего интереса к сибирскому наукограду: ряд публикаций демонстрировал зарождение альтернативной версии его истории. Вероятно, первым шагом в этом направлении стала книга английского автора Д. Журав-ски «Дело Лысенко» (1970). В ней названный автор мимоходом касался истории новосибирского Академгородка в связи с борьбой «лысенковцев» против генетики в конце 1950-х гг. [Joravsky, 1970. P. 56–57].
Однако принципиальным рубежом в данном процессе стало появление книги М. А. Поповского «Управляемая наука», которая вышла в Лондоне в 1978 г. Напомним, что названный автор был одним из наиболее известных в нашей стране журналистов по проблемам науки. За свои острые публикации он подвергся преследованиям и в 1976 г. был вынужден эмигрировать. В постсоветский период вызвал резонанс ряд его новых произведений, в особенности книга «Житие Войно-Ясенецкого – епископа и хирурга». В книге «Управляемая наука» в исследуемом контексте наибольший интерес представляет глава «Города и годы», значительная часть которой посвящена новосибирскому Академгородку, жизнь которого освещается в сопоставлении с другими научными городками СССР.
В целом названный автор весьма негативно оценивал данный исторический опыт. Он утверждал, что создание научных городков имело лишь кратковременный позитивный эффект, а затем все худшие черты административно-командной системы воспроизвелись в них в наиболее законченном виде. В частности, в названной книге гово- рится: «Поняли ли хозяева советской науки, что, в отличие от Запада, наш эксперимент с научными резервациями провалился? <…> Что до партийных руководителей науки, то они в городках души не чают. Именно городки для них – символ лучшего, что есть в науке страны. Что же их так восхищает? На прямой вопрос партийные боссы отвечают малосодержательными фразами о “взаимном оплодотворении наук”, об атмосфере энтузиазма среди жителей Академгородка, Дубны и Пущино. Как мы теперь знаем, энтузиазмом тут не пахнет. Но зато есть нечто другое, действительно ценное. В городках науки исследователь еще более зависим от администрации, чем в Москве, Ленинграде или Киеве; проявление личной или общественной инициативы там еще менее возможно, чем в больших городах; общественное мнение доведено до нулевой отметки, личностный характер в науке полностью отсутствует. Иными словами, советская наука в научном городке более управляема, чем где бы то ни было в другом месте» [Поповский, 1978. С. 123.]
С определенными оговорками в рассматриваемом ряду альтернативной литературы можно упомянуть также мемуары Р. Л. Берг «Суховей» (первое издание вышло после ее эмиграции в США в 1983 г.). Автор, известный генетик, доктор биологических наук, работала в Институте цитологии и генетики СО АН в 1963–1968 гг. Целый ряд фрагментов названной книги посвящен ее жизни в Академгородке [Берг, 2003. С. 319–331]. Разумеется, эти мемуарные свидетельства имеют прежде всего источниковое значение. Вместе с тем, как и в случае с мемуарами М. А. Лаврентьева, можно говорить и о некотором историографическом значении рассматриваемой книги, поскольку в ней прослеживается определенная общая концепция по отношению к сибирскому городу науки. Как и у М. А. Поповского, она носит весьма негативистский характер: при изображении жизни Академгородка автор делает акцент на засилье бюрократии, всеобъемлющем контроле («стукачи» и т. д.), конформизме ученых, иерархии и привилегиях. Правда, в отличие от книги М. А. Поповского, подобные утверждения носят главным образом характер эмоциональных суждений.
Подводя итоги историографического процесса в рамках его первого периода, правомерно прежде всего сделать вывод, что его динамика носила весьма сложный характер. Формирование историографии новосибирского Академгородка в существенной мере определялось фундаментальными политико-идеологическими детерминантами. Важнейшей особенностью данного этапа являлось недостаточное внимание к названной теме со стороны профессионального исторического сообщества, что также определялось целым рядом факторов объективного и субъективного характера.
На уровень осмысления данной темы в немалой степени воздействовало состояние источниковой базы, недоступность многих документов или невозможность их полноценного использования. Не меньшее значение имели и идеологические ограничения, в том числе ориентация на апологетический подход к истории «советского периода», предполагавший соответствующий взгляд и на историю отечественной науки данной эпохи.
Вместе с тем на первом этапе изучения истории новосибирского Академгородка, несомненно, сложились значимые предпосылки для дальнейшего прогресса в данной предметной области. Сформировались определенные исследовательские подходы, была дана оценка целого ряда событий из истории Новосибирского научного центра, происходило расширение информационной базы соответствующих исследований. О том, как все эти факторы проявились в новых общественно-политических условиях начиная с 1990-х гг., будет сказано в следующей статье на данную тему.
BECOMING HISTORIOGRAPHY OF NOVOSIBIRSK AKADEMGORODOK IN CONTEXT OF MOBILIZATION AND INNOVATIVE MODELS
Список литературы Становление историографии Новосибирского академгородка в контексте мобилизационной и инновационной моделей
- Авдулов А. Н., Кулькин А. М. Система государственной поддержки научно-технической деятельности в России и США. М., 2003. 84 с.
- Академия наук СССР. Сибирское отделение: Хроника. 1957-1982 гг. Новосибирск, 1982. 336 с.
- Александров Д. А. Фритц Рингер, немецкие мандарины и отечественные ученые // Новое литературное обозрение. 2002. № 53. С. 90-104.
- Али-Заде А. А. Структурные реформы -стратегический фактор инновационного развития. М., 2012. 213 с.
- Аллахвердян А. Г., Агамова Н. С. От «общедисциплинарного» к «дисциплинарному» науковедению -путь к взаимодействию с историей науки//Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова: Годичная научная конференция, 2008. М., 2009. С. 18-29.
- Анчишкин А. И. Наука. Техника. Экономика. М., 1989. 383 с.
- Артемов Е. Т. Формирование и развитие сети научных учреждений АН СССР в Сибири. 1944-1980 гг. Новосибирск, 1990. 188 с.
- Артемов Е. Т. Научно-техническая политика в советской модели позднеиндустриальной модернизации. М., 2006. 254 с.
- Баландин С. Н. Новосибирск. История градостроительства: 1945-1985. Новосибирск, 1986. 156 с.
- Балакин В. С. Отечественная наука в 50-е -середине 70х гг. XX в. (опыт изучения социокультурных проблем). Челябинск, 1997. 202 с.
- Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987. 374 с.
- Безбородов А. Б. Власть и научно-техническая политика в СССР середины 50-х -середины 90-х гг. М., 1997. 214 с.
- Берг Р. Л. Суховей: Воспоминания генетика. М., 2003. 524 с.
- Век Лаврентьева. Новосибирск, 2000. 425 с.
- Водичев Е. Г. Путь на Восток: формирование и развитие научного потенциала Сибири. Середина 50-х -60-е гг. Новосибирск, 1994. 202 с.
- Водичев Е. Г. Наука на востоке СССР в условиях индустриализационной парадигмы. Новосибирск, 2012. 348 с.
- Водичев Е. Г., Узбекова Ю. И. Развитие академической науки в Сибири: историографический очерк//Советская региональная политика: Проблемы изучения: Сб. науч. тр. Новосибирск, 2004. С. 116-169.
- Водопьянова Е. В. Научно-технический потенциал стран СНГ и Восточной Европы: проблемы и перспективы. М., 1999. 68 с.
- Галкин А. А. Общественный прогресс и мобилизационная модель развития//Коммунист. 1990. № С. 23-33.
- Ганичев В. Н. Гагарин называл меня «идеологом»//Наш современник. 2003. № 11. С. 228-253.
- Грэхэм Л. Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе/Пер. с англ. М., 1991. 480 с.
- Грэхэм, Л. Р., Кантор, Ж.-М. Имена бесконечности: Правдивая история о религиозном мистицизме и математическом творчестве. М., 2011. 213 с.
- Дубинин Н. П. Вечное движение. М., 1973. 431 с.
- Дубнов А. П., Кочергин А. Н., Лисс Л. Ф. Партийная работа в вузе (некоторые вопросы формирования специалистов в условиях научно-технической революции). М., 1979. 230 с.
- Евсеенко А. В., Унтура Г. А. Научно-технический комплекс региона: Анализ и проектирование (на примере Сибири). Новосибирск, 1990. 283 с.
- Есаков В. Д., Осипов Ю. С. Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б)-КПСС: 1921-1991. М., 2000. 590 с.
- Калашников М. (Кучеренко В. А.). Сломанный меч империи. М., 2001. 554 с.
- Калашников М. Вперед, в СССР-2. М., 2003. 413 с.
- Калашников М. Третий проект. Погружение: Книга-расследование. М., 2005. 766 с.
- Козлов Б. И. Академия наук СССР и индустриализация России: Очерк социальной истории. 1925-1963. М., 2003. 272 с.
- Кузнецов И. С. Рец. на кн.: Ваш А. Яншин/Под ред. А. Э. Канторовича. Новосибирск, 2004. 297 с.//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2005. Т. 4, вып. 2: История. С. 156-158.
- Кузнецов И. С. Фундаментальные издания к 50-летию СО РАН. Рец. на кн.: Российская академия наук. Сибирское отделение: Исторический очерк. Новосибирск, 2007. 510 с.; Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. Новосибирск, 2007. 603 с.; Российская академия наук. Сибирское отделение: Стратегия лидеров. Новосибирск, 2007. 544 с.//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2008. Т. 7, вып. 1: История. С. 239-241.
- Кузнецов И. С. О новых книгах по истории новосибирского Академгородка//Наука в Сибири. 2009. 2 июля (№ 26).
- Кузнецов И. С. Неизвестный Лаврентьев. Новосибирск, 2010. 60 с.
- Кузнецов И. С. Создание новосибирского Академгородка в контексте «мобилизационной модели»//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, вып. 2: История. С. 86-91.
- Кузнецов И. С. Сталинская мобилизационная модель и структуры повседневности: дискуссионные проблемы//Социальная мобилизация в сталинском обществе: институты, механизмы, практики: Сб. науч. ст. Новосибирск, 2012а. Вып. 2. С. 4-15.
- Кузнецов И. С. Социально-психологические факторы формирования сталинской мобилизационной модели//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012б. Т. 11, вып. 8: История. С. 84-90.
- Кузнецов И. С. Эволюция сталинской мобилизационной модели: проблемы изучения. Статья 1//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012в. Т. 11, вып. 8: История. С. 104-113.
- Кузнецов И. С. Эволюция сталинской мобилизационной модели: проблемы изучения. Статья 2//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, вып. 1: История. С. 55-63.
- Лахтин Г. А. Организация советской науки: история и современность. М., 1990. 217 с.
- Лебедев В. Э. Научно-техническая политика региона: опыт формирования и реализации (1956-1980 гг.). Свердловск, 1991. 215 с.
- Летохов В. С. Советско-российская наука//Физик В. С. Летохов -жизнь в науке. М., 2012. С. 99-103.
- Макаренко В. П. Научно-техническая контрреволюция: идеи М. К. Петрова как источник мысли. Ростов н/Д, 2012. 217 с.
- Метафизика и идеология в истории естествознания. М., 1994. 240 с.
- Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России XX века: Сб. материалов I Всерос. науч. конф. Челябинск, 2009. 571 с.
- Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России XX века: Сб. материалов II Всерос. науч. конф. Челябинск, 2012. 662 с.
- Мобилизационная роль Советского государства в хозяйственном освоении Сибири (1920-1980-е гг.): Сб. науч. тр. Новосибирск, 2012. 227 с.
- Молетотов И. А. Партийная работа в научном центре. Новосибирск, 1963. 48 с.
- Наука и кризисы: Историко-сравнительные очерки/Под ред. Э. И. Колчинского. СПб., 2003. 1040 с.
- Никифорчук В. А. Мобилизационный тип развития: особый путь развития России от Ивана Грозного до Владимира Путина. М., 2004. 166 с.
- Новосибирский научный центр. Новосибирск, 1962. 206 с. Подвластная наука? Наука и советская власть/Сост., науч. ред. С. С. Неретина, А. П. Огурцов. М., 2010. 815 с.
- Поповский М. А. Управляемая наука. Лондон, 1978. 159 с.
- Репрессированная наука/Под ред. М. Г. Ярошевского. Л., 1991. Вып. 1. 556 с.
- Репрессированная наука/Под ред. М. Г. Ярошевского. СПб., 1994. Вып. 2. 319 с.
- Российская академия наук. Сибирское отделение: Исторический очерк. Новосибирск, 2007. 510 c.
- Социальная мобилизация в сталинском обществе: институты, механизмы, практики: Сб. науч. ст. Новосибирск, 2011. Вып. 1. 189 с.
- Социальная мобилизация в сталинском обществе: институты, механизмы, практики: Сб. науч. ст. Новосибирск, 2012. Вып. 2. 192 с.
- Строительство города науки. Новосибирск, 1963. 147 с.
- Ушакова С. Н. Проблема социальной мобилизации в современной англоязычной историографии//Социальная мобилизация в сталинском обществе: институты, механизмы, практики: Сб. науч. ст. Новосибирск, 2012. Вып. 2. С. 16-27.
- Фонотов А. Г. Россия от мобилизационного общества к инновационному. М., 1993. 272 с.
- Холловэй Д. Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергетика. 1939-1956. Новосибирск, 1997. 626 с.
- Аdams M. Networks in Action: The Khruschoev Era, the Сold War and Transformations of Soviet Science//Science, History and Social Activism: A Tribute to Everett Mendelsohn/Eds. G. Allen, R. MacLeod. Dordrecht, 2001. P. 74-91.
- Fortescue S. Science Policy in the Soviet Union. L.; N. Y., 1990. 275 р.
- Joravsky D. The Lysenko Affair. Cambridge, 1970. 216 р.
- Josephson P. Totalitarian Science and Technology. 2nd ed. Princeton, 2005. 317 р.
- Kenez P. The Birth of the Propaganda State (Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917-1929). Cambridge, 1985. 318 р.
- Kremetsov N. L. Stalinist Science. Princeton, 1997. 267 р.
- Kremetsov N. L. Stalins Great Science and Adventures of Soviet Physicists. L., 2004. 323 p.
- Меrton R. The Sociology of Science. Chicago, 1973. 384 p.
- Slapentokh V. Soviet Intellectuals and Political Power: The Post-Stalin Era. Princeton; New Jersey, 1990. 367 p.
- Solomon S. Reflections on Western Studies of Soviet Science//The Social Context of Soviet Science. Boulder, 1980. P. 38-53.
- Stuart L. The Cold War and American Science: The Military-Industrial-Academic Complex at MIT and Stanford. N. Y., 1993. 237 p.