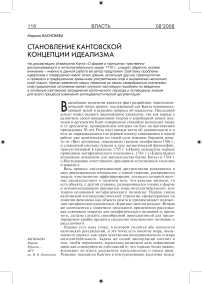Становление кантовской концепции идеализма
Автор: Васильева Марина Юрьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2008 года.
Бесплатный доступ
На диссертацию Иммануила Канта «О форме и принципах чувственно воспринимаемого и интеллигибельного мира» 1770 г. следует обратить особое внимание - именно в данной работе ее автор предложил трактовку проблемы идеализма с совершенно новой точки зрения, используя другую терминологию и привнеся в традиционное привычное употребление слов и выражений несколько иной смысл. Кроме появления новых терминов со своим своеобразным значением, инаугурационное сочинение может служить настоящим пособием по введению в основные кантовские затруднения критического периода и путеводным знаком для всего процесса изменения антиидеалистической аргументации.
Короткий адрес: https://sciup.org/170169273
IDR: 170169273
Текст научной статьи Становление кантовской концепции идеализма
В ажнейшим моментом является факт разработки эпистемологической точки зрения, послужившей для Канта основополагающей вехой в решении вопроса об идеализме. Последний аспект может вызвать закономерное удивление, так как наряду с развитием своей новационной теории и апробацией новых подходов и аргументов Кант совершенно спокойно использует также и те аргументы, приверженцем которых он был на протяжении предыдущих 20 лет. Р-ечь идет прежде всего об удивительном и в чем-то парадоксальном (на первый взгляд) совмещении в одной работе уже критических по своей сути доводов, берущих начало от «Грез духовидца, поясненных грезами метафизики»1766 г., и слаженной системы тезисов в духе догматической философии, присутствующей в трактатах 1755 г. («Новое освещение первых принципов метафизического познания»), 1763 г. («Е-динственно возможное основание для доказательства бытия Б-ога») и 1764 г. («Исследование отчетливости принципов естественной теологии и морали»).
Однако есть одна точка, в которой сходятся обе плоскости кантовских рассуждений, и эта точка есть понятие мира, понимаемого двояко: как мира чувственно воспринимаемого и мира ВАСИЛьЕВА интеллигибельного. Задача же самой диссертации состоит в
Марина том, чтобы определить, насколько возможно дать дефиницию
Юрьевна – мира как совокупности субстанций и, что гораздо более важно,
МГу возможно ли иметь адекватное представление о таком мире.
им. М. В. Ломоносова Р-ешение находится Кантом в постулировании различия между чувственной и рассудочной способностями, то есть между чувственностью и рациональностью (интеллигенцией). Ч-увственность понимается как «восприимчивость субъекта, при помощи которой возможно, что на состояние представления самого субъекта определенным образом действует присутствие какого-либо объекта». Р-ациональность же есть «способность субъекта, при помощи которой он в состоянии представлять себе то, что по своей природе недоступно чувствам».
Именно в рассуждении о двузначности понятия мира вводится решающее для всего последующего критического периода разделение нашей познавательной области на «представления о вещах, какими они нам являются» и на «представления рассудочные – как они существуют (на самом деле)». Произошел очень интересный поворот в кантовском мышлении вообще и в отношении к проблеме идеализма, в частности: от изучения способов бытия мира к рассмотрению способов его познания, и, следовательно, имеем дело с эпистемологическим дуализмом.
В кантовской диссертации совершенно четко прослеживается изменение кантовского понимания сущности идеализма как философского течения и его значительный отход от того смысла, который вкладывали в него Вольф и Б-аумгартен. От метафизических размышлений по поводу природы и существования одних лишь нематериальных субстанций в мире Кант перешел к рассмотрению проблемы существования объектов познания, понятие о которых мы имеем через посредствующее звено феноменов. Кант довольно часто и практически не меняя формулировки употребляет данный довод в тексте диссертации, но наиболее важен в этом смысле, безусловно, параграф 11, так как именно в нем подчеркивается антиидеалистическая направленность положения об аффицировании. В первой части параграфа на опровержение идеалистов направлено положение, что существование объектов вне нас в мире подтверждается фактом бытия феноменов как непосредственных воздействий этих внешних нам объектов на нашу чувственность. Таким образом, наше же собственное восприятие эмпирически подтверждает нам реальность объектов вне нас; при этом как бы выно- сится за скобки вопрос о природе объектов вне нас или о возможности искажения связи «объект – феномен». Для Канта важен сам факт воздействия объекта на нашу познавательную способность, его последствия и оперирование с ними – важно то, что уже дано, но каким именно способом дано и какая конкретно причина тому послужила, остается в диссертации неизложенным. Б-олее того, есть все основания полагать, что это было сделано Кантом намеренно – с целью максимально обезопасить свою аргументативную стратегию. В черновых заметках предположительно более раннего времени (1762–1763 гг.) также предполагается неясность причины в отношении существования тел.
В чем же в таком случае оказывается «виноват» идеализм, с кантовской точки зрения? Прежде всего тем, что сомневается в истинности чувственного познания, а следовательно и в самом факте существования вещей вне нас, или же не может его доказать. В этом вопросе ключевым является понимание статуса феномена в кантовской диссертации – через него становится возможным прояснить для себя масштаб эпистемологического поворота в полемике с идеализмом.
Пограничной линией между чувственно воспринимаемым и интеллигибельным миром в диссертации служит изначальное эпистемологическое разделение на чувственность и рассудок, которое, казалось бы, не оставляет ни малейшего шанса на возможность их соединения, тем не менее Кант после обсуждения устройства интеллигибельной сферы обращается вновь к вопросам чувственного познания. Это говорит прежде всего о том, что Кант рассматривал данные два мира как находящиеся друг с другом в тесной взаимосвязи и аргументативная конструкция его диссертации представляет собой не иерархическое восхождение от одной ступени познания к другой и не две абсолютно не соприкасающиеся области, но своеобразное динамическое горизонтальное образование наподобие зеркального отображения.
Утверждение Канта в начале параграфа 11 о том, что феномены не выражают абсолютного и внутреннего качества объектов, то есть не отображают в точности их природу и есть, следовательно, лишь «образы вещей, а не идеи», является развитием темы, поднятой в параграфе 10. Особенность человеческого способа созерцания заключается в невозможности доступа для человека рассудочного созерцания. Такое познание возможно для нас посредством самых общих, абстрактных понятий, но ни в коем случае не через единичные понятия в конкретной форме. Ноумен, или интеллигибельное в принципе, «не может быть воспринят при помощи представлений, почерпнутых из ощущений» и лишен вообще всех свойств человеческого созерцания. Наше созерцание изначально пассивно и не в силах служить принципом бытия вещей, но может быть лишь следствием их воздействия на нас, в отличие от независимос- ти и самодостаточности Б-ожественного интеллектуального созерцания. И вызвано подобное положение дел прежде всего спецификой принципа формы чувственно воспринимаемого мира – пространством и временем, который позволяет нам взаимодействовать с объектами с помощью наших чувств и единственно при котором мы вообще способны ввести какую-либо вещь в нашу познавательную область.
Принцип формы чувственно воспринимаемого мира содержит в себе основание всеобщей связи для всего того, что представляет собой феномен, следовательно, является принципом субъективным – это есть определенный «закон духа», позволяющий с необходимостью рассматривать все, что относится к чувствам как их объект. Для феноменального мира принцип формы раздваивается на пространство и время: Кант характеризует их как «абсолютно первые, всеобъемлющие и составляющие как бы схемы и условия всего чувственного в человеческом познании», наделяя их тем самым свойствами всеобщности и необходимости. В отношении пространства и времени Кант выдвинул сразу несколько положений, в доработанном и уточненном варианте, составившем содержание «Трансцендентальной эстетики» в «Критике чистого разума».
Следовательно, «реальный» в метафизическом смысле мир существует за счет подобного отношения субстанций; и именно субстанции и их отношения лежат в основе мира, который для нас является феноменальным посредством пространственно-временных форм. Проблема метафизического познания и сущность вопроса о принципе формы интеллигибельного мира в диссертации заключается в том, чтобы выяснить, на чем покоится само это отношение субстанций и вообще как возможно, «чтобы многие субстанции находились во взаимной связи и таким образом относились к одному и тому же целому».
Кант предложил решение данного вопроса, отличающееся и от теории предустановленной гармонии и от версии окказионализма в пользу измененной теории физического влияния, уже задействованной им в «Новом освещении первых принципов метафизического познания». Принятие тезиса о необходимости реального основания, которое сохраняет мир как единое целое, состоящее из субстанций и их отношений друг к другу, делает неадекватными в рамках кантовского сочинения положения как предустановленной гармонии, так и окказионализма. Положениями последних предполагается идеальная и симпатическая гармония между субстанциями, то есть гармония без истинного взаимодействия. Такая гармония имеет место в случае, когда какие-либо индивидуальные состояния субстанции приспосабливаются к состоянию другой субстанции – подобная гармония называется также еще «единично-установленной».
Кант поддерживал точку зрения физического влияния, хотя особо отмечал необходимость избавить эту теорию от некоторого изъяна, или ошибки, состоящей в том, что «она необдуманно утверждает, что взаимодействие субстанций и переходящие силы достаточно объясняются одним их существованием». Согласно кантовской позиции, если все же взаимодействие между субстанциями присутствует, то необходимо заключить, что существует некое особое основание, благодаря которому и становится возможным это взаимодействие. С одной стороны, нужна взаимосвязь субстанций, чтобы прийти к причине, с другой стороны, – причина, чтобы осуществилась взаимосвязь. Эта причина мира есть «вне его находящееся сущее» и источник бытия всех субстанций в нем, так как они происходят «не от разного, а все от одного», вследствие чего проистекает единство между ними. Причина происхождения всего является в то же время и причиной всеобщей связи: «зодчий мира должен быть… творцом».
Посредством тезиса о первопринципе и первопричине мира в диссертации делается все-таки попытка задать некоторые ориентиры в сфере чувственного созерцания, поскольку процесс познания становится возможным лишь потому, что раскрытие и применение человеческих когнитивных способностей осуществляется, как и все остальное в мире, «бесконечной силой единого». Соответственно, восприятия как внешнего, так и внутреннего чувства в принципе проистекают благодаря одной общей поддерживающей причине. В первом случае пространство, являясь чувственно познаваемым всеобщим и условием соприсутствия всего, обозначается как феномен вездесущия. Во втором случае время предстает в качестве того единственного бесконечного и неизменного, в котором все находится и существует, то есть феномена вечности общей причины. Однако Кант не рискует высказываться с большей степенью уверенности, следуя в этом основному закону метафизического познания не смешивать чувственные понятия с рассудочными и не переходить границ человеческого созерцания. Е-сли же не учитывать данных предостережений, то создастся ситуация, подобная той, что была описана Кантом в «Грезах духовидца…»: ссылаясь при рассмотрении феноменов на определенные сверхъестественные предметы, например, на влияние духов, и не имея никакого понятия об их природе, «наш рассудок был бы к великому своему ущербу отвращен от света опыта, только благодаря которому у него есть возможность создавать себе законы суждения, и был бы ввергнут во мрак неведомых нам признаков и причин».
Таким образом, можно сделать вывод, что хотя в диссертации имеются определенные зачатки будущей критической программы в том, что касается определения структуры и границ чувственного познания, но в отношении очерчивания границ рассудочной области есть довольно заметные пробелы, так как кантовское рассуждение движется здесь в рамках элеато-платонических воззрений. В этом плане позиция идеализма, сомневающегося в истинности чувственного познания, опровергается аргументами, заимствованными из того же эмпирико-познавательного контекста, что предполагает коренное отличие решения вопроса об идеализме от воль-фианской традиции.
Новацией кантовской позиции является прежде всего толкование проблемы идеализма как проблемы в первую очередь эпистемологической и требующей, соответственно, эпистемологического же решения. Но, поскольку Кант одной из задач диссертации сделал ограничение сферы опыта и определение объектов для нашей чувственности как феноменов, роль рассудочного познания (в его реальном применении) в отношении обоснования объектов феноменального мира становится весьма существенной.
Из-за изначального различия чувственной и рациональной способностей и соответствующего им деления на два отличных друг от друга мира создаются как бы две реальности: одна – познаваемая в чувствах, но не отражающая внутреннего качества вещей, и другая – это качество мыслящая, но неспособная отобразить его чувственно; в результате чувственно воспринимаемая действительность феномена не совмещается с действительностью объектов самих по себе. Учитывая все данные моменты, проект диссертации важен для понимания дальнейшего развития кантовского отношения к проблеме идеализма, поскольку определил необходимую перспективу ее рассмотрения и проложил дорогу развертыванию программы формального идеализма самого Канта.