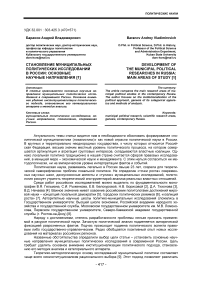Становление муниципальных политических исследований в России: основные научные направления
Автор: Баранов Андрей Владимирович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Политические науки
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье сравниваются основные научные направления муниципальных политических исследований в современной России. Основное внимание уделено институционализации политического подхода, становлению его категориального аппарата и методик анализа.
Муниципальные политические исследования, научные направления, становление, современная Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/14939196
IDR: 14939196 | УДК: 32.001
Текст научной статьи Становление муниципальных политических исследований в России: основные научные направления
Актуальность темы статьи видится нам в необходимости обосновать формирование «политической муниципалистики (локалистики)» как новой отрасли политической науки в России. В крупных и территориально неоднородных государствах, к числу которых относится Российская Федерация, весьма значим местный уровень политического процесса, на котором совершается артикуляция и агрегация групповых интересов, складываются властные коалиции. Однако локальная политика традиционно в нашей стране считается сферой правовых исследований, в меньшей мере – экономической науки и менеджмента. С этим нельзя согласиться ни методологически, ни на эмпирическом уровне интерпретации фактов и событий.
Политическая наука, развиваясь легально в России свыше 23 лет, созрела для теоретической саморефлексии проблем локальной политики. Не определив «точки роста» современных научных школ, дискуссионные аспекты и «тупики» муниципальных исследований, политология рискует утратить теоретический инструментарий анализа реальных властных отношений.
Среди работ российских исследователей можно выделить по фундаментальности монографии В.Я. Гельмана, С.И. Рыженкова, Е.В. Белокуровой, Н.В. Борисовой [2], Д.А. Тихонова [3], В.Д. Нечаева [4]. Важное значение имеет освоение российскими политологами достижений мировой науки – концепций локальной демократии [5], городских политических режимов [6], «коалиций роста» [7]. Авторитетные научные школы политико-муниципальных исследований сложились в Государственном университете: Высшей школе экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, Пермском государственном университете, Северо-Кавказской академии государственной службы (г. Ростов-на-Дону) [8].
Наряду с достижениями, степень разработанности проблемы нельзя признать приемлемой в ракурсе политической науки. Зачастую политический анализ подменяется эмпирической фиксацией разрозненных фактов. Подчас происходит подмена политического аспекта правовым либо государственно-управленческим. Редко обобщается позитивный опыт новых исследований на материалах российских регионов.
Названные обстоятельства определили выбор цели статьи – установить основные научные направления муниципальных политических исследований в современной России. Цель требует уделить основное внимание институционализации политического подхода, становлению его методик анализа и категориального аппарата.
Теоретико-методологическую основу исследований муниципальной политики составляет чаще всего неоинституционализм рационального выбора [9]. Этот подход позволяет различать формальные и неформальные аспекты политического процесса, выявлять практики групповых и индивидуальных политических акторов, идентифицировать их стратегии и ресурсы влияния, объяснять действия моделью «ограниченной рациональности», сочетающей рациональные мотивы поведения с историко-культурными и организационными ограничениями.
Кроме того, применяются системный подход и структурный функционализм, используется исторический подход, позволяющий устанавливать этапы развития научных концепций. Для политических исследований темы характерны также теории политических трансформаций и модернизации. В отличие от правоведов [10], политологи стремятся рассматривать местный уровень публичной власти как неотъемлемую часть политического режима и его политического курса (policy) [11]. Местный уровень власти рассматривается как часть многоуровневой системы центр-локальных и регионально-локальных политических отношений, что позволяет исследовать его роль в циклических процессах централизации и децентрализации, в федеративных отношениях, в вертикальной циркуляции элит между уровнями политической системы.
Относительно мало распространен метод биографического анализа муниципальных элит, хотя он перспективен, так как дает возможность выявить факторы накопления социального капитала, индивидуальную специфику карьерограмм и их социокультурные детерминанты [12].
На эмпирическом уровне также часто применяются методы массового анкетного и экспертного опроса, что позволяет выявить восприятие состояния местного самоуправления и его основных форм в общественном мнении, наметить пути и методы муниципальных реформ в России, установить стереотипы политических ориентаций экспертов и «массовых» респондентов [13].
Прежде всего, отметим комплекс научных работ в русле концепции «локальной демократии». Судя по работам Д. Джонса, Дж. Чэндлера, Р. Роудса, местные органы власти являются важным институтом политической демократии на низовом уровне [14]. В.Э. Гончаров определяет феномен как «такую систему организации управления в местном сообществе, при которой представительная демократия сочетается с элементами прямой демократии, основанной на широком политическом участии, свободном обсуждении общественных проблем и высоком уровне конкуренции различных политических лидеров и организаций» [15, с. 6]. Локальная демократия, по определению В.Э. Гончарова, обладает базовыми признаками: политической конкурентностью; осведомленностью местного сообщества о своих проблемах и курсе локальной политики; сильной локальной идентичностью; сниженной дистанцией между элитами и населением. Большую роль играют социальные сети – система связей, основанная на доверительных личных отношениях и обмене ресурсами. Влияние социальных сетей при благоприятных условиях способствует конкурентности. В локальном сообществе редка монополизация власти лидером или группировкой. Относительно слабы барьеры политической карьеры: для успешной избирательной кампании не требуется больших ресурсов. Политика на локальном уровне деи-деологизированна и может строиться на непартийной основе [16]. Канадский политолог М. Бушар справедливо связывает «локальную демократию» с децентрализацией власти и непосредственным участием граждан в самоуправлении, для чего муниципалитеты должны быть субсидиарными и защищать свои интересы в рамках закона [17, с. 262–266].
С точки зрения неоинституционализма, наличие местного сообщества означает, что индивиды и группы, его составляющие, обладают достаточной для самоуправления ресурсной базой и организационными «рутинами», а также способны артикулировать свои солидарные интересы и продвигать их путем реализации политических стратегий. В социокультурном аспекте важна локальная идентичность, то есть устойчивая приверженность участников сообщества своему «политическому коллективу», солидарность с его политическим курсом и символами, осознание своих особенностей. В прикладном ракурсе это означает, что далеко не каждое муниципальное образование РФ является местным сообществом; их границы часто не совпадают, так как главные критерии районирования – сети повседневного общения и самоидентификация жителей, а не правовая регламентация.
Второе из основных научных направлений муниципальных политических исследований в РФ – концепция «городских режимов» (urban regime theory ), разработанная в работах К. Стоуна [18] и С. Элкина [19]. Она, реализуя политэкономический подход к изучению институтов власти, ставит в центр внимания условия и динамику формирования и функционирования городских правящих коалиций, состоящих из публичных и частных акторов. В условиях демократии эффективность политики местных администраций зависит от их способности образовывать неформальные коалиции с частными акторами (бизнес-группами, неправительственными объединениями), которые обладают ресурсами, значимыми для эффективного управления. Создание таких коалиций позволяет объединить ресурсы и оптимизировать курс локальной власти. «Городской режим» представляет правящую коалицию публичных и частных акторов, которая сравнительно устойчива и имеет целенаправленную политическую повестку.
Среди российских политологов наиболее глубоко проанализировали концепцию «городских режимов» В.Г. Ледяев [20], Д.Б. Тев [21], Е.Г. Довбыш [22]. Степень и специфику ее применимости в России В.Г. Ледяев аргументировал так: политические процессы 2000-х гг. делают городские режимы маловероятными в силу роста преобладания административных методов управления. Но есть факторы, сохраняющие возможность формирования городских режимов: влияние глобализации, рост сложности социальных процессов, влекущих усложнение процессов властвования, особенно в крупных городах. Усиление федерального центра может вызвать ответное стремление местных элит объединиться в отстаивании интересов. Бизнес имеет существенные ресурсы политического влияния (деньги, корпоративная солидарность, связи, инновационность) и структурные преимущества, позволяющие добиваться привилегий. Слабость правовой системы может использоваться для коалиционных отношений на неформальной основе. Неформальные практики всегда играли главную роль в политическом процессе России. Попытки ограничить роль бизнеса в принятии политических решений не могут полностью подорвать его неформальное влияние. Заявленные цели стратегии федерального центра расходятся с практиками их реализации, не все субъекты политики заинтересованы в укреплении вертикали власти [23, с. 63–65].
Третье основное направление анализа местной политики – это концепции «коалиций роста». Они объясняют, как разные групповые и частные интересы интегрируются в политический курс правящих коалиций. Исходна гипотеза М. Молоча о том, что город является пространством распределения групповых интересов; тип отношений между представителями влиятельных групп воздействует на политическое управление. В зависимости от состава, стратегий, вида сплоченности ключевых акторов образуется несколько вариантов локальных режимов, которые являют собой механизмы взаимодействия и аккумуляции ресурсов управления городом [24]. Д.Б. Тев на примере Санкт-Петербурга доказал существование «коалиции роста» вследствие рекрутирования административной элиты. В составе городской администрации ключевые посты занимают выходцы из крупнейших компаний, прежде всего – финансовых и строительных. Стремление административных элит к тесному союзу с ними связано с ключевой ролью секторов в обеспечении прибыли бюджета. Высокая же политическая активность данных сегментов бизнес-элит вызвана тем, что они особенно сильно зависят от муниципальной власти [25].
Итак, в итоге теоретического анализа муниципальных политических исследований в постсоветской России установлено, что их основными научными направлениями являются: концепции «локальной демократии», «городских режимов» и «коалиций роста». Все данные направления сформировались в русле англо-американской политологической традиции и нуждаются в качественной адаптации применительно к российским реалиям. Среди муниципальных политических исследований в РФ важнейшее значение имеют работы В.Я. Гельмана, В.Г. Ледяева, Д.Б. Тева. Они создали типологию локальных («городских») политических режимов, категориальный аппарат анализа их строения и действия на основе неоинституционализма. Определен круг преобладающих методик анализа местной политики: системный подход, структурный функционализм, биографический метод, анкетный и экспертный опросы. Местный уровень власти рассматривается в контексте теорий модернизации как часть многоуровневой системы центр-локальных и регионально-локальных политических отношений, что позволяет исследовать его роль в циклических процессах централизации и децентрализации, в федеративных отношениях, в вертикальной циркуляции элит между уровнями политической системы. Такой подход открывает новые возможности анализа практической политики муниципальных образований России, диспозиции акторов политики на местном уровне и их взаимодействий.
Ссылки и примечания:
-
1. Публикация подготовлена в рамках поддержанного Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) научного проекта № 13–03–00392 «Влияние муниципальной реформы на современный процесс политических трансформаций в России».
-
2. Гельман В.Я., Рыженков С.И., Белокурова Е.В., Борисова Н.В. Автономия или контроль? Реформа местной власти в городах России. 1991–2001. СПб.; М., 2002.
-
3. Тихонов Д.А. Местное самоуправление и муниципальная автономия в современной России. М., 2004.
-
4. Нечаев В.Д. Территориальная организация местного самоуправления в регионах России: генезис и институциональные эффекты. Курск, 2004.
-
5. Новоселов А.А. Применение концепции «местной демократии» в современном процессе государственного строительства европейских стран: дис.... канд. полит. наук. Н. Новгород, 2006.
-
6. Ледяев В.Г. Эмпирическая социология власти: марксистские исследования власти в городских и территориальных общностях // Власть в России: элиты и институты. СПб., 2009. С. 161–184.
-
7. Тев Д.Б. Капитал и местная власть. К вопросу о предпосылках участия бизнесменов в городской политике //
Элиты и власть в российском социальном пространстве. СПб., 2008. С. 225–265.
-
8. Эффективность самоуправления муниципальных образований городских и сельских поселений (опыт России и Германии) // Материалы междунар. науч.-практ. конф. 14 апр. 2011 г. / авт.-сост. В.В. Рудой, Н.Г. Кузнецов, А.В. Понеделков и другие. Ростов н/Д., 2011.
-
9. Панов П.В. Институционализм рационального выбора: потенциал и пределы возможностей // Институциональ
ная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России. М., 2006. С. 43–92.
-
10. Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Местные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты. М., 2001.
-
11. Галкин А.А., Валентей С.Д., Соловей В.Д., Федосов П.А. Эволюция российского федерализма // Полис. 2002. №
-
3. С. 96–128.
-
12. Политические лидеры местных сообществ / авт. кол.: В.М. Юрченко, Е.В. Морозова, И.В. Самаркина, И.В. Мирошниченко. Краснодар, 2002.
-
13. Модернизационная составляющая в развитии местного самоуправления в России на современном этапе // Ин-форм.-аналит. материалы / авт.-сост. В.В. Рудой, А.В. Понеделков, А.М. Старостин и другие. Ростов н/Д., 2010.
-
14. Rhodes R.A.W. et al. Control and Power in Central-Local Government Relations. Farnborough, 1981.
-
15. Гончаров В.Э. Технологии локальной демократии (метод. пособие для местных активистов). СПб., 2010.
-
16. Там же. С. 6–7.
-
17. Бушар М. Поддержание основ: содействие локальной демократии в России // Политический альманах Прикамья. Пермь, 2005. Вып. 5. С. 252–268.
-
18. Elkin S.L. City and regime in the American Republic. Chicago, 1987.
-
19. Stone C.N. Regime Politics: Governing Atlanta. 1946–1988. Lawrence, 1989.
-
20. Ледяев В.Г. Модели эмпирического исследования власти: западный опыт // Власть и элиты в российской трансформации. СПб., 2005. С. 65–79.
-
21. Тев Д.Б. Политэкономический подход в анализе местной власти. К вопросу о коалиции, правящей в Санкт-Петербурге // Политическая экспертиза. СПб., 2006. Т. 2. № 2. С. 99–121.
-
22. Довбыш Е.Г. Сетевые технологии формирования городской идентичности // Человек. Сообщество. Управление. Краснодар, 2012. № 4. С. 111–118.
-
23. Ледяев В.Г. Социология власти: теория городских политических режимов // Социологический журнал . 2006 . № 3–4. С. 46–68.
-
24. Molotch H. The City as a Growth Machine // American Journal of Sociology. Сhicago, 1976. Vol. 82. № 2. P. 309–335.
-
25. Ibid. P. 117–118.