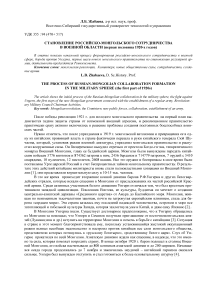Становление российско-монгольского сотрудничества в военной области (первая половина 1920-х годов)
Автор: Жабаева Л.Б.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 1 (36), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье показан начальный процесс формирования российско-монгольского сотрудничества в военной сфере, борьба против Унгерна, первые шаги нового монгольского правительства по становлению регулярной армии, деятельность председателя Реввоенсовета.
Монгольская революция, коминтерн, новые общественные силы, сотрудничество, создание армии
Короткий адрес: https://sciup.org/142142453
IDR: 142142453 | УДК: 355:
Текст научной статьи Становление российско-монгольского сотрудничества в военной области (первая половина 1920-х годов)
После победы революции 1921 г. для молодого монгольского правительства на первый план выдвигаются задачи защиты страны от возможной внешней агрессии, и революционное правительство практически сразу активно включилось в решение проблемы создания постоянных боеспособных воинских частей.
Нужно отметить, что после упразднения в 1919 г. монгольской автономии и превращения ее в одну из китайских провинций власть в стране фактически перешла в руки китайского генерала Сюй Шу-чжэна, который, установив режим военной диктатуры, упразднил монгольское правительство и распустил вооруженные силы. Он бесцеремонно вынудил отречься от престола Богдо-гэгэна, теократического монарха Внешней Монголии, главу ее буддийской церкви. Монголы были вынуждены передать китайским войскам 5776 винтовок и 874362 патрона к ним, 2456 берданок и 714779 патронов, 7 орудий с 5410 снарядами, 10 пулеметов, 12 пистолетов, 2608 шашек. Все это оружие и боеприпасы в свое время были поставлены Урге царской Россией в счет беспроцентных займов монгольскому правительству. В результате этих действий китайские милитаристы вновь стали полновластными хозяевами во Внешней Монголии [1], они представляли внушительную силу в 10-15 тыс. человек.
В это же время происходит вторжение конной дивизии барона Р.Ф.Унгерна и других белогвардейских отрядов, которые искали спасения в Монголии от преследовавших их частей российской Красной армии. Среди активных участников белого движения Унгерн отличался тем, что был яростным противником западной цивилизации. Поклонник Востока, ее культуры, буддизма он мечтает о создании центрально-азиатской державы «Срединного царства» от Амура до Каспийского моря. Монголия, жившая по неизменным тысячелетним законам, почти не затронутая европейским влиянием, стала для барона «сердцем мира». Эта страна казалась ему последней надеждой человечества, островом в море все затопляющей и гибельной культуры Запада, которая захлестнула уже и Китай, и даже саму Японию [2] .
В Монголии Унгерна знали. Существует достоверное предположение, что к Унгерну обращались из Монголии за помощью, что Унгерн и Семенов получили приглашение от восточномонгольских князей (Лувсанцэвэн и др.) вступить на территорию Монголии и помочь в борьбе с китайцами [3]. Ситуация в стране в этот момент благоприятствовала ему, поскольку установившийся жестокий оккупационный режим вызвал всеобщее недовольство и настроил против китайцев все слои монгольского общества, представители которых потянулись к «русскому богатырю», «родственнику белого царя». Слух об Ун-герне прокатился по всей Монголии. Азиатскую дивизию ждали как спасение, в надежде, что это именно та сила, которая поможет возродить страну. В конце октября 1920 г. барон подошел к столице Внешней Монголии, его войска насчитывали до 800 конников азиатской дивизии и до 200 цириков. Начавшаяся осада города продолжалась до 7 ноября и закончилась неудачей – китайский гарнизон оказался сильнее. Унгерн был вынужден отступить и стал готовиться к более основательному штурму [4].
Силы Унгерна росли: в январе 1921 г. у него было уже около 3 тыс. бойцов, в том числе русских 2 тыс., монголов 1 тыс. [5] Единственным препятствием к решительному штурму столицы был плененный китайцами Богдо-гэгэн. Стратегическим просчетом китайцев явилось то, что они заключили под стражу духовного владыку Монголии. Унгерн принимает решение похитить «живого бога», ибо без него вся миссия Унгерна, мечтавшего о восстановлении монархий во всем мире, теряла всякий смысл. Через монголов он нашел руководителя этой операции, бурята Тубанова, сына популярной в городе портнихи. Ургинец Д. П. Першин описал его в своих мемуарах как отчаянного парня, заядлого картежника, сорви-голову, готового пойти на все что угодно, лишь бы это было выгодным для него. «Все в нем носило характер и преступности, и решительности, и смелости, и наглости» [6]. Тубанов продуманно подобрал помощников из числа тибетцев, проживавших изолированной колонией в Урге. Они, «умеющие держать язык за зубами», как нельзя лучше подходили для этой операции. Тубанов действовал стремительно и провернул все дело виртуозно. Появление «живого бога» в стане Унгерна было встречено всеобщим ликованием. Дерзкое и молниеносное похищение Богдо-гэгэна из его Зеленого дворца, охраняемого стражей более 300 человек, оказало деморализующее воздействие на китайский гарнизон и повергло его в оцепенение. Через несколько дней после ожесточенных боев, 4 февраля Урга оказалась полностью в руках объединенных сил при главнокомандующем бароне Унгерне и командующем монгольскими отрядами князе Лувсанцэвэне. Десятитысячный китайский гарнизон был выбит из города и бежал на север, в Кяхтинский Маймачен. Богдо-гэгэн щедро наградил Унгерна и его ближайшее окружение. Унгерну были присвоен титул цин-вана (князь первой степени) и наивысший ханский титул со званием «возродивший государство великий батор-командующий». Он сравнялся в правах с правителями четырех халхаских аймаков [7].
В феврале 1921 г. Унгерн вернул ханский трон Богдо-гэгэну, реставрировал монгольское правительство и возвратил портфели бывшим министрам. Возглавил правительство популярный религиозный деятель Жалханз-хутухта. Стремясь использовать талант С. Максаржава, полководца, народного героя, Унгерн назначил его главнокомандующим монгольскими войсками и привлек к операциям против китайских войск [8]. Что же касается положения самого барона Унгерна, то именно он, «возродивший государство великий батор-командующий», становится хозяином степи, фактически диктатором Монголии. Конечно, у монголов вызывало уважение знание Унгерном их обычаев, языка, привлекательными были и его идеи об объединении монгольских племен, образовании федерации кочевых народов Центральной Азии, воссоздании державы Чингисхана. К началу апреля 1921 г. 15-тысячная китайская армия, наводившая страх на всю Монголию, была разгромлена и изгнана из страны. Парадокс истории заключается в том, что Унгерн, преследовавший свои собственные цели, сам того не желая, в большой степени облегчил выполнение задач Монгольской революции.
Барон диктаторствовал в этой стране около четырех месяцев, и время его властвования мало чем отличалось от того периода бесчинств, которыми было ознаменовано пребывание в Монголии китайских войск и чиновников. Режим, установленный Унгерном, не сулил монголам ничего хорошего. В первые же дни после захвата Урги в городе было развязано кровавое насилие и дикий террор. Из своих идейных соображений барон вывел такой практический вывод: физически истреблять революционеров и коммунистов, уничтожать их, по его словам, путем «разных степеней смертной казни», а евреи как наиболее яркие носители революционных начал должны быть истреблены поголовно. Он со средневековой жестокостью считал: «От евреев не должно остаться ни мужчин, ни женщин, даже на семя не должно остаться». Преследованиям подверглись прогрессивно настроенные российские и монгольские граждане.
Тем временем образованная в январе 1921 г. в Иркутске на основе секции восточных народов Сиббюро ЦК РКП(б крупная и мощная структура Коминтерна как Дальневосточный секретариат исполнительного комитета Коммунистического интернационала (ИККИ) во главе с уполномоченным ИККИ на Дальнем Востоке, известным революционером, видным партийным и государственным деятелем Б. З. Шумяцким, активно действует. В распоряжении секретариата были значительные финансовые и военные возможности.
После того как барон захватил Ургу и изгнал оттуда китайцев, задача Коминтерна с политической точки зрения изменилась, стала значительно проще. На первый план выдвигается борьба с Унгерном, и делу освобождения Монголии был придан характер ликвидации «классового врага» и, вместе с тем, уничтожения опасного для сибирских границ плацдарма в Монголии в случае захвата ее Японией. 5 февраля 1921 г. (в это время барон Унгерн уже пировал в Урге) замнаркоминдел Карахан и завотдвосто-ка Янсон отправляют депешу в реввоенсовет, Склянскому под грифом «Совершенно секретно», прилагая также копии последних телеграмм от Гапона и Шумяцкого, где подчеркивалась «крайняя необходи- мость срочного разрешения вопроса о выдаче Монгольской народно-революционной партии оружия». Они пишут о той сложной обстановке, что сложилась в Монголии, что она «все более и более попадает под влияние Японии и захватывается ею. При фактической оккупации Японией Приморской области, а также агрессивной политике ее на Китайской восточной железной дороге, откуда она еще до сих пор не изгнана, такой захват Монголии может привести к чреватым последствиям, и вся наша работа на Дальнем Востоке при таком отношении к весьма срочному, не терпящему отлагательства вопросу приведется к нулю» [9]. Прилагался список оружия на 3 тыс. бойцов кавалерии: 3000 винтовок, 10 тыс. гранат, 2 аэроплана и бомбы к ним, 1 бронемашина, полевой телефон, 1-2 млн. патронов, 2 горных орудия, 2 полевых орудия, 4000 снарядов, 3-4 автомобиля, 5 пулеметов «Кольт» или «Максим», 30 ручных пулеметов, 150 револьверов, полевые кухни и 20-30 человек командного состава» [10].
Проведенные в 1921 г. совместные операции против Унгерна советского экспедиционного корпуса и монгольской народной армии показали, что, опираясь на полученную финансовую, военную поддержку, монгольские войска смогли вести активную борьбу за освобождение своей страны.
Первоначально монгольская армия, сформированная вблизи Алтан-Булака, состояла всего из 500 добровольцев под командованием Сухэ-Батора [11]. Монгольское правительство с участием Москвы ведет основательную подготовительную работу по созданию национальной армии. В 1921 г. председатель Дальневосточного секретариата Коминтерна Б. З. Шумяцкий еще активно занимался монгольскими делами. В августе в сообщении в центр Г.В. Чичерину по вопросу создания монгольской армии он пишет: «Я уже Вам сообщал в черновиках проект организации монгольской армии . „ Этот проект разработан военными специалистами... мною лично прокорректирован и согласован с временным правительством, которое, подсчитав все возможности, сочло возможным декретировать основную идею проекта - необходимость постоянной нарревармии...» [12] Далее Шумяцкий конкретизирует, что «в настоящее время проект этот, став уже законом, начал осуществляться. Подобранные мною инструктора и центральная фигура и душа всего этого плана - начальник штаба - встали уже на работу, и машина уже завертелась... лично руковожу устройкой и военной и хозяйственного и административного аппарата» [13].
В июле 1921 г. в монгольской армии появилась должность председателя Военного совета, был принят первый устав. Согласно его 9-й статьи «на пост председателя правительством назначается лицо, не имевшее специального военного поручения» [14]. 19 сентября 1921 г. советник монгольского правительства Э.-Д. Ринчино вступает в руководство этой высокой и властной должности (приказ правительства от 19 сентября 1921 г. за № 70) и занимает его до отъезда в СССР по октябрь 1925 г. В реввоенсовет входили председатель (представитель правительства), военный министр (он же главком) и начальник Штаба главкома. Назначение Ринчино на этот важный пост, по всей вероятности, исходило от Коминтерна и было поддержано партийными органами. Как свидетельствуют монгольские источники, в структуре правительства должность председателя реввоенсовета была третьей по значимости и в «табели о рангах» шла после премьер-министра и его заместителя.
Следует отметить, что кандидатура Ринчино на столь высокую должность, на наш взгляд, прекрасно устраивала Коминтерн и, самое главное, монголов, так как: 1) Ринчино, бурят-монгол по национальности, прекрасно подготовлен, знает язык, страну, у него налажены связи как в России, так и в Монголии; 2) имеет опыт организации военного дела, являясь командующим войсковыми формированиями («Улаан-цагда») Бурятского национального комитета; 3) принимал активное участие в национально-освободительном движении Монголии, непосредственно участвовал в боевых операциях против белогвардейцев и китайских захватчиков, имеет боевой опыт, за что награжден орденом Красного Знамени; 4) руководил совместными военными действиями, возглавляя военный совет при штабе партизанских войск Монголии, являлся также начальником политуправления МНРА; 5) входит в основной круг руководства новой Монголии, но не имеет какой-либо военной должности, что соответствует статье устава военного совета о председателе.
Деятельность Э.-Д. Ринчино как председателя военного совета имела широкий масштаб, поскольку функции военного совета были обширны: рассмотрение и представление на утверждение монгольскому правительству вопросов формирования войсковых соединений, укомплектования, составление сметы и расходов на содержание армии, снабжение всеми видами довольствия, проекты военных сооружений, утверждение высшего командного состава, организация обучения войск. Как видим, в сфере компетенции военного совета были практически все вопросы военного характера. Он принимает участие в разработке и проведении в жизнь всех указов по военному ведомству, постановления реввоенсовета проводились в жизнь через Штаб главкома и Военное ведомство.
В прямом подчинении председателя Реввоенсовета были главнокомандующий Д. Сухэ-Батор и военный министр Хатан-батор Максаржав, с которыми у Ринчино сложились дружеские и уважитель- ные отношения. Д. Сухэ-Батор вместе с Д. Бодо и С. Данзаном входил в центр национальной власти. Главнокомандующий, несмотря на свою молодость, имел среди солдат огромную популярность. Председатель реввоенсовета считал, что Сухэ-Батор является одним из искренних и убежденных сторонников ориентации на советскую Россию. «Как человек, Сухэ-Батор представляет наиболее симпатичную фигуру из современных общественных деятелей Монголии … Как политический деятель, он очень умерен, но не беспринципен – общедемократическую линию ведет довольно последовательно» [15]. Хатан-батор Максаржав (1878–1927) – прославленный военачальник, народный герой. За личную храбрость, боевые заслуги и руководство отрядами он заслужил при всех правительствах Внешней Монголии высокие награды. За героизм, проявленный при освобождении Кобдо от китайских войск в 1912 г., получил высокое звание «Хатанбатор», народное правительство присвоило ему звание «Народный герой». Участник 30 сражений [16].
Советская Россия оказала большое содействие руководству Монголии в организации штабной работы и укреплении главных органов управления войсками, выделяя приоритеты и вовлекая людей в решение практических вопросов. По приглашению монгольского правительства начальниками Главного штаба Монгольской народной армии длительное время работали советские военные специалисты: Лятте (март-апрель 1921), П.И. Литвинцев (апрель-сентябрь 1921), В.А. Хува (сентябрь 1921-сентябрь 1922), С.И. Попов (1922-1923), Д.И. Косич (1923-1924), В.А. Кангелари (1925-1926), Я.В. Шеко (1927-1930) [17], которые в той или иной мере добросовестно работали на благо Монголии.
Вслед за командирами в монгольские степи прибывали красноармейцы, которые приняли участие в боях против барона Р.Ф. Унгерна, в ликвидации активного противника новой революционной власти Джа-ламы [18] (лидера национально-освободительной борьбы западных монголов начала ХХ в., а после победы национально-демократической революции 1921 г. он начал вооруженную борьбу против нее). Многие военные инструкторы – русские, калмыки, буряты, остались после победы революции 1921 г. работать в Монголии, тем самымсодействуя формированию национальной армии.
Основой формирующейся монгольской регулярной армии стали бывшие партизанские отряды, тогда еще слабо обученные и плохо вооруженные. Но уже к концу 1921 г. увеличивается численность армии и достигает 2000 сабель; создаются штаб главкома, военное министерство и военный совет с политуправлением. Следует отметить, что военный министр, главком Д. Сухэ-Батор принимал самое деятельное участие в подготовке и утверждении постановлений и распоряжений правительства и их дальнейшей реализации. В период с 7 июля 1921 г. по 13 февраля 1923 г. он участвовал в 73 заседаниях правительства, в обсуждении и решении более 530 вопросов, получил и ознакомился с содержанием 470 документов, поступивших в адрес правительства [19]. Он много и напряженно повседневно трудился. Его сын С. Галсан позже писал: «В этот период отец очень много работал, возвращался с работы на рассвете. Бывало, приляжет ненадолго, не раздеваясь, и снова на работу» [20]. При этом до конца 1921 г. главком Сухэ-Батор неустанно занимался координацией боевых операций на западе и востоке страны, в районе восточных и южных границ, особенно были значимы бои на западе, в районе Улясутая. Главком в ряде сражений лично командовал своими подразделениями. Так, в конце июля ему пришлось отбить атаки 300 бандитов всего в 30 км от Урги. Тяжелые бои монгольские цирики под командованием главкома вели в конце августа против бригады белых во главе с есаулом Хоботовым, и здесь победа была на стороне бойцов Сухэ-Батора [21]. Приказом Революционного военного совета РСФСР в 1922 г. главком монгольской народно-революционной армии Д. Сухэ-Батор, его заместитель Х. Чойбалсан, командующий войсками в западной Монголии Хатан-Батор Максаржав за доблестные совместные боевые действия были удостоены ордена Красного Знамени. Такие же высокие награды получили начальник штаба В.А. Хува и председатель Военного совета Э. Ринчино [22].
Весь 1922 г. проходит в организации полков на границе и в Урге, армия плохо снабжается обмундированием и продовольствием, жалованье постоянно задерживается, не было правильно организованных войсковых единиц, не хватало хорошо подготовленных инструкторов, не был организован учет людей, оружия [23]. В 1922 г. положение армии, не имевшей «хорошего комполитсостава, вооружения и техники, было признано тяжелым» [24].
«Лед тронулся» и ситуация стала меняться к лучшему в 1923 г., когда монгольское правительство командировало в Москву военно-дипломатическую миссию с заданием получить оружие и пригласить новый квалифицированный инструкторский состав. Как свидетельствуют архивные документы, Э-Д. Ринчино как председатель миссии на переговорах стремится к продуктивным результатам, вносит предложения, твердо отстаивает интересы Монголии. 13 июня 1923 г. состоялось первое заседание из представителей военного ведомства, НКИД и миссии. Монгольское правительство исчисляло количество вооружения, припасов и снаряжения, исходя из контингента армии в 15 тыс. человек. Военное ве- домство СССР, руководствуясь снабженческими возможностями, а также предположением, что монгольская армия «насчитывает отнюдь не более трех тысяч человек, удовлетворило Монгольское правительство вооружением, припасами и снаряжением в соответствующей пропорции (на 3 тысячи человек)» [25]. Ринчино же доказывал, что расчет, принятый РВС, не соответствует действительности, что в Монголии имеется в настоящее время 5000 человек под ружьем (3 с половиной тысячи в Урге и 1500 в пограничных областях) и это количество может быть доведено до 15-20 тыс. человек. Он «упорно настаивал на увеличении количества отпускаемых винтовок с 3 тысяч хотя бы до 5 тысяч» [26], ставил острый вопрос и с запасными частями к винтовкам (затворы, шомпола) ввиду того, что имеющиеся в монгольской армии 6 тыс. винтовок в большей части непригодны из-за их отсутствия. В итоге совещание сочло необходимым возбуждение монгольской миссией перед Российским правительством дополнительного ходатайства о заключении специального военного договора, которое Ринчино предложил соединить с новым предложением, признанным совещанием «необходимым и приемлемым для обоих сторон», по которому нужды Монгольской народной армии включались бы в производственные планы развития российской военной промышленности, что дало бы возможность планомерного снабжения монгольской армии вооружением, боеприпасами и снаряжением [27]. Обсуждались вопросы об авиазвене. На совещании выяснилось, что предлагаемые для продажи в Монголию два аппарата «Вуазен» не устраивают ввиду их устарелости, тихоходности. Поскольку Монголия «намерена платить и в сумме не останавливается», члены миссии настаивали на их замене более усовершенствованными [28].
В ходе поездки был решен вопрос о начальнике штаба, им был назначен Д.И. Косич, «известный по своей работе в 5-й армии (в Иркутске), а также в связи с предполагавшимся в прошлом году назначением его Полпредом в Монголию» [29]. Также были набраны инструкторы - начальник кавалерийской школы, командир дивизии, инструктор артиллерии и инструктор пулеметного дела. 10 июля 1923 г. зав. отделом востока НКИД СССР С.И. Духовской сообщал в письме В.И. Юдину, что по вопросу о выдаче военного имущества главным управлением снабжения РККА монголам представлен точный список имущества и расценка отпускаемых предметов. «Общая сумма достигает 6.000.000 руб. зол[отом]. Представленная Управлением снабжения расценка показалась Ринчино чрезмерно высокой, и хотя раньше предполагалось, что он здесь уже в настоящее время приобретет имущество на 1.000.000. руб. зол[отом], с тем, чтобы остальное получить по мере надобности и наличной расплаты, - теперь им (Рин-чино) выдвигается новый план» [30]. Суть его заключалась в том, чтобы согласовать вопрос о получении военного имущества в Урге с монгольским правительством при участии Косича, «который на месте сможет выяснить действительно неотложные потребности Монгольской армии в том или ином виде военного имущества. Подымает вопрос о забронировании за Монголпра необходимого количества военного имущества в базе, находящейся вблизи монгольской границы. Вопрос с нашей стороны возражений не вызывает» [31].
Как видим, поездка в целом в центр была результативной, работа военного ведомства стала налаживаться. Председатель реввоенсовета отмечает, что строительство армии началось только с осени 1923 г. в связи с прибытием в Монголию Д.И. Косича, приглашенного на пост начальника штаба главкома и его сотрудников [32]. В ноябре 1923 г. был созван съезд командного, политического и инструкторского состава, где были выяснены нужды всей армии, составлены штаты и смета, началась планомерная реорганизация монгольской армии. Постепенно, шаг за шагом стала организовываться работа. Планомерное снабжение армии началось с конца 1923 г., армия стала аккуратно получать продовольствие и жалованье, в Урге были построены казармы, а до этого времени пограничные части жили за счет местного населения, проживая при этом в палатках. Прибывшие инструкторы работали в тяжелых условиях, не хватало переводчиков, но инструкторы выполняли свою работу ответственно.
Монгольское правительство в октябре 1924 г. отметило работу инструкторов, которые хорошо руководили военными делами и оказали большую помощь. По ходатайству военного министерства высшими государственными наградами, учрежденными еще в 1913 г. для награждения иностранных граждан, были награждены начальник Главного штаба армии Д.И. Косич орденом «Эрдэнийн Очир» («Драгоценный жезл») первой степени, а начальник школы младших командиров В.И. Дмитренко, инструктор артиллерийского дивизиона А.И. Якимович, секретарь военного совета А.К. Бойко, инструктор по пулеметам Н.М. Гловацкий - орденом «Эрдэнийн Очир» второй степени.
Одним из сложных был вопрос о подготовке командных кадров для монгольской армии. Отчетливо сознавая эту проблему, монгольское правительство провело ряд мероприятий для подготовки командного состава: организовано военное училище на 600 человек; организовано отдельное обучение на повторных курсах старых командиров; организована военная школа имени Сухэ-Батора для мальчиков с 7-летним курсом. Срок службы в армии для цириков (солдат) был установлен в 3 года.
На I Великом хурале председатель Реввоенсовета выступил с докладом о проделанной работе на 4-м заседании 12 ноября 1924 г. По существу, это был отчет за период с 1921 по 1924 г., а сделано было немало. Ринчино в своем докладе отмечает, что если монгольская армия в 1921 г. состояла всего из 500 добровольцев, то к концу 1924-го - из 4 пограничных полков, 2 дивизионов, нескольких отдельных эскадронов, 1 кавбригады, 1 пулеметного полка, сводного артиллерийского дивизиона, кадровых столичных частей военного училища [33]. Великий хурал, заслушав доклад председателя военного совета, отметил: «Хурулдан удовлетворен общим положением войска и считает целесообразными основные пути создания войск». Затем на заседании Малого хурала от 29 ноября 1924 г. при обсуждении вопроса о формировании правительства председатель Реввоенсовета Э.-Д. Ринчино вновь был избран на эту должность.
Таким образом, первая половина 1920-х гг. была наиболее сложным периодом в истории Монголии – молодое государство нуждалось в защите, создании боеспособной армии. В невероятно напряженных условиях, порожденных почти полным отсутствием средств, (к примеру, в 1921 г. казна революционного правительства состояла только из захваченных у китайцев товаров), низким социально-экономическим положением страны, к тому же границы государства находились под угрозой возможного вооруженного нападения как русских белогвардейцев, так и китайских империалистов, сложной политической ситуацией, кочевым образом жизни большинства населения, неопытностью правительства в делах государственного управления, отсутствии опыта создания постоянных армейских соединений, в 1920-х гг. в Монголии были сделаны первые шаги в организации, обучении регулярной армии и пограничных войск, способных справиться с ответственной задачей защиты государства. В этом трудном деле огромную поддержку и помощь правительственным кругам Монголии оказало советское правительство. Несмотря на напряженные отношения с Китаем, Советский Союз оказал всестороннюю помощь монгольскому правительству в создании боеспособной национальной армии. Для Монголии эти годы были периодом борьбы за свободу и независимость, защиты национальной государственности. Для России Монголия также имела важное значение для укрепления и расширения политических и экономических интересов на Дальнем Востоке в деле обеспечения безопасности государственной границы. С учетом этих факторов развивалось и расширялось российско-монгольское сотрудничество, строились двусторонние доверительные отношения, в системе которых важное место занимало политически чувствительное военное сотрудничество.